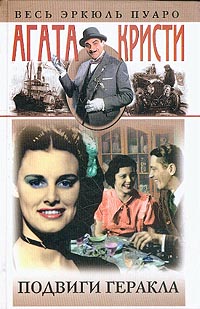Книга "Белая гвардия". Страница 36
- Одиннадцать дней! - вскричал Николка. - Видишь! - почему-тоукоризненно обратился он к Елене.
- Да-с, одиннадцать... Выехал я, поезд был гетманский, а по дорогепревратился в петлюровский. И вот приезжаем мы на станцию, как ее, ну,вот, ну, господи, забыл... все равно... и тут меня, вообразите, хотелирасстрелять. Явились эти петлюровцы, с хвостами...
- Синие? - спросил Николка с любопытством.
- Красные... да, с красными... и кричат: слазь! Мы тебя сейчасрасстреляем! Они решили, что я офицер и спрятался в санитарном поезде. А уменя протекция просто была... у мамы к доктору Курицкому.
- Курицкому? - многозначительно воскликнул Николка. - Тэк-с, - кот... икит. Знаем.
- Кити, кот, кити, кот, - за дверями глухо отозвалась птичка.
- Да, к нему... он и привел поезд к нам в Житомир... Боже мой! Я тутначинаю богу молиться. Думаю, все пропало! И, знаете ли? птица меняспасла. Я говорю, я не офицер. Я ученый птицевод, показываю птицу... Тут,знаете, один ударил меня по затылку и говорит так нагло - иди себе, бисовптицевод. Вот наглец! Я бы его убил, как джентльмен, но самиEFонимаете...
- Еле... - глухо послышалось из спальни Турбина. Елена быстроповернулась и, не дослушав, бросилась туда.
Пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часадня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лицеЕлены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный часжизни - половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов ртаи стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимостьбороться с бедой.
На лице у Николки показались колючие и нелепые без двадцати час оттого,что в Николкиной голове был хаос и путаница, вызванная важными загадочнымисловами "Мало-Провальная...", словами, произнесенными умирающим на боевомперекрестке вчера, словами, которые было необходимо разъяснить не позже,чем в ближайшие дни. Хаос и трудности были вызваны и важным падением снеба в жизнь Турбиных загадочного и интересного Лариосика, и темобстоятельством, что стряслось чудовищное и величественное событие:Петлюра взял Город. Тот самый Петлюра и, поймите! - тот самый Город. И чтотеперь будет происходить в нем, для ума человеческого, даже самогоразвитого, непонятно и непостижимо. Совершенно ясно, что вчера стрясласьотвратительная катастрофа - всех наших перебили, захватили врасплох. Кровьих, несомненно, вопиет к небу - это раз. Преступники-генералы и штабныемерзавцы заслуживают смерти - это два. Но, кроме ужаса, нарастает и жгучийинтерес, - что же, в самом деле, будет? Как будут жить семьсот тысяч людейздесь, в Городе, под властью загадочной личности, которая носит такоестрашное и некрасивое имя - Петлюра? Кто он такой? Почему?.. Ах, впрочем,все это отходит пока на задний план по сравнению с самым главным, скровавым... Эх... эх... ужаснейшая вещь, я вам доложу. Точно, правда,ничего не известно, но, вернее всего, и Мышлаевского и Карася можносчитать кончеными.
Николка на скользком и сальном столе колол лед широким косарем. Льдиныили раскалывались с хрустом, или выскальзывали из-под косаря и прыгали повсей кухне, пальцы у Николки занемели. Пузырь с серебристой крышечкойлежал под рукой.
- Мало... Провальная... - шевелил Николка губами, и в мозгу егомелькали образы Най-Турса, рыжего Нерона и Мышлаевского. И как толькопоследний образ, в разрезной шинели, пронизывал мысли Николки, лицо Анюты,хлопочущей в печальном сне и смятении у жаркой плиты, все явственнейпоказывало без двадцати пяти пять - час угнетения и печали. Целы лиразноцветные глаза? Будет ли еще слышен развалистый шаг, прихлопывающийшпорным звоном - дрень... дрень...
- Неси лед, - сказала Елена, открывая дверь в кухню.
- Сейчас, сейчас, - торопливо отозвался Николка, завинтил крышку ипобежал.
- Анюта, милая, - заговорила Елена, - смотри никому ни слова не говори,что Алексея Васильевича ранили. Если узнают, храни бог, что он против нихвоевал, будет беда.
- Я, Елена Васильевна, понимаю. Что вы! - Анюта тревожными,расширенными глазами поглядела на Елену. - Что в городе делается, царицанебесная! Тут на Боричевом Току, иду я, лежат двое без сапог... Крови,крови!.. Стоит кругом народ, смотрит... Говорит какой-то, что двухофицеров убили... Так и лежат, головы без шапок... У меня и ногиподкосились, убежала, чуть корзину не бросила...
Анюта зябко передернула плечами, что-то вспомнила, и тотчас из рук еекосо поехали на пол сковородки...
- Тише, тише, ради бога, - молвила Елена, простирая руки.
На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъеми силу - ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись иторчали вверх, как острие меча. Происходило это потому, что послекатастрофы, потрясшей Лариосикову нежную душу в Житомире, после страшногоодиннадцатидневного путешествия в санитарном поезде и сильных ощущенийЛариосику чрезвычайно понравилось в жилище у Турбиных. Чем именно Лариосик пока не мог бы этого объяснить, потому что и сам себе этого неуяснил точно.
Показалась необычайно заслуживающей почтения и внимания красавицаЕлена. И Николка очень понравился. Желая это подчеркнуть, Лариосик улучилмомент, когда Николка перестал шнырять в комнату Алексея и обратно, и сталпомогать ему устанавливать и раздвигать пружинную узкую кровать в книжнойкомнате.
- У вас очень открытое лицо, располагающее к себе, - сказал вежливоЛариосик и до того засмотрелся на открытое лицо, что не заметил, каксложил сложную гремящую кровать и ущемил между двумя створками Николкинуруку. Боль была так сильна, что Николка взвыл, правда, глухо, но настолькосильно, что прибежала, шурша, Елена. У Николки, напрягающего все силы,чтобы не завизжать, из глаз сами собой падали крупные слезы. Елена иЛариосик вцепились в сложенную автоматическую кровать и долго рвали ее вразные стороны, освобождая посиневшую кисть. Лариосик сам чуть незаплакал, когда она вылезла мятая и в красных полосах.
- Боже мой! - сказал он, искажая свое и без того печальное лицо. - Чтоже это со мной делается?! До чего мне не везет!.. Вам очень больно?Простите меня, ради бога.
Николка молча кинулся в кухню, и там Анюта пустила ему на руку, по егораспоряжению, струю холодной воды из крана.
После того, как хитрая патентованная кровать расщелкнулась иразложилась и стало ясно, что особенного повреждения Николкиной руки нет,Лариосиком вновь овладел приступ приятной и тихой радости по поводу книг.У него, кроме страсти и любви к птицам, была еще и страсть к книгам. Здесьже на открытых многополочных шкафах тесным строем стояли сокровища.Зелеными, красными, тисненными золотом и желтыми обложками и чернымипапками со всех четырех стен на Лариосика глядели книги. Уж давноразложилась кровать и застелилась постель и возле нее стоял стул и наспинке его висело оEлотенце, а на сиденье среди всяких необходимых мужчиневещей - мыльницы, папирос, спичек, часов, утвердилась в наклонномположении таинственная женская карточка, а Лариосик все еще находился вкнижной, то путешествуя вокруг облепленных книгами стен, то присаживаясьна корточки у нижних рядов залежей, жадными глазами глядя на переплеты, незная, за что скорее взяться - за "Посмертные записки Пиквикского клуба"или за "Русский вестник 1871 года". Стрелки стояли на двенадцати.
Но в жилище вместе с сумерками надвигалась все более и более печаль.Поэтому часы не били двенадцать раз, стояли молча стрелки и были похожи насверкающий меч, обернутый в траурный флаг.
Виною траура, виною разнобоя на жизненных часах всех лиц, крепкопривязанных к пыльному и старому турбинскому уюту, был тонкий ртутныйстолбик. В три часа в спальне Турбина он показал 39,6. Елена, побледнев,хотела стряхнуть его, но Турбин повернул голову, повел глазами и слабо, нонастойчиво произнес: "Покажи". Елена молча и неохотно подала емутермометр. Турбин глянул и тяжело и глубоко вздохнул.
В пять часов он лежал с холодным, серым мешком на голове, и в мешкетаял и плавился мелкий лед. Лицо его порозовело, а глаза стали блестящимии очень похорошели.
- Тридцать девять и шесть... здорово, - говорил он, изредка облизываясухие, потрескавшиеся губы. - Та-ак... Все может быть... Но, во всякомслучае, практике конец... надолго. Лишь бы руку-то сохранить... а то что ябез руки.
- Алеша, молчи, пожалуйста, - просила Елена, оправляя у него на плечаходеяло... Турбин умолкал, закрывая глаза. От раны вверху у самой левойподмышки тянулся и расползался по телу сухой, колючий жар. Порой оннаполнял всю грудь и туманил голову, но ноги неприятно леденели. К вечеру,когда всюду зажглись лампы и давно в молчании и тревоге отошел обед трех Елены, Николки и Лариосика, - ртутный столб, разбухая и рождаяськолдовским образом из густого серебряного шарика, выполз и дотянулся доделения 40,2. Тогда тревога и тоска в розовой спальне вдруг стали таять ирасплываться. Тоска пришла, как серый ком, рассевшийся на одеяле, а теперьона превратилась в желтые струны, которые потянулись, как водоросли вводе. Забылась практика и страх, что будет, потому что все заслонили этиводоросли. Рвущая боль вверху, в левой части груди, отупела и сталамалоподвижной. Жар сменялся холодом. Жгучая свечка в груди пороюпревращалась в ледяной ножичек, сверлящий где-то в легком. Турбин тогдакачал головой и сбрасывал пузырь и сползал глубже под одеяло. Боль в раневыворачивалась из смягчающего чехла и начинала мучить так, что раненыйневольно сухо и слабо произносил слова жалобы. Когда же ножичек исчезал иуступал опять свое место палящей свече, жар тогда наливал тело, простыни,