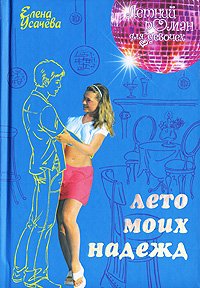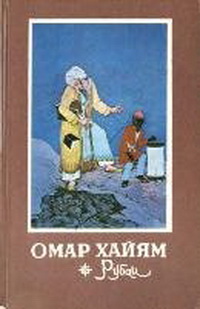Книга "Театральный роман". Страница 31
изображал выстрел, хлопая в ладоши, а на генеральной выстрелил вкулисе по-всамделишному. Ну, Настасье Ивановне и сделалосьдурно - она ни разу в жизни не слыхала выстрела, а ЛюдмилаСильвестровна закатила истерику. И с тех пор выстрелы прекратились. Впьесе сделали изменение, герой не стрелял, а замахивался лейкой икричал "убью тебя, негодяя!" и топал ногами, отчего, по мнению ИванаВасильевича, пьеса только выиграла. Автор бешено обиделся на театр итри года не разговаривал с директорами, но Иван Васильевич осталсятверд...
По мере того, как текла хмельная ночь, порывы мои ослабевали,и я уже не шумно возражал Бомбардову, а больше задавал вопросы. Ворту горел огонь после соленой красной икры и семги, мы утоляли жаждучаем. Комната, как молоком, наполнилась дымом, из открытой форточкибила струя морозного воздуха, но она не освежала, а толькохолодила.
- Вы скажите мне, скажите, - просил я глухим, слабымголосом, - зачем же в таком случае, если пьеса никак не расходится уних, они не хотят, чтобы я отдал ее в другой театр? Зачем она им?Зачем?
- Хорошенькое дело! Как зачем? Очень интересно нашему театру,чтобы рядом поставили новую пьесу, да которая, по-видимому, можетиметь успех! С какой стати! Да ведь вы же написали в договоре, что неотдадите пьесу в другой театр?
Тут у меня перед глазами запрыгали бесчисленныеогненно-зеленые надписи "автор не имеет права" и какое-то слово"буде"... и хитрые фигурки параграфов, вспомнился кожаный кабинет,показалось, что запахло духами.
- Будь он проклят! - прохрипел я.
- Кто?!
- Будь он проклят! Гавриил Степанович!
- Орел! - воскликнул Бомбардов, сверкая воспаленнымиглазами.
- И ведь какой тихий и все о душеговорит!..
- Заблуждение, бред, чепуха, отсутствиенаблюдательности! - вскрикивал Бомбардов, глаза его пылали, пылалапапироса, дым валил у него из ноздрей. - Орел, кондор. Он на скалесидит, видит на сорок километровкругом. И лишь покажетсяточка, шевельнется, он взвивается и вдруг камнем падает вниз!Жалобный крик, хрипение... и вот уж он взвился в поднебесье,и жертва у него!
- Вы поэт, черт вас возьми! - хрипел я.
- А вы, - тонко улыбнувшись, шепнул Бомбардов, - злой человек!Эх, Сергей Леонтьевич, предсказываю вам, трудно вампридется...
Слова его кольнули меня. Я считал, что я совсем не злойчеловек, но тут же вспомнились и слова Ликоспастова о волчьейулыбке...
- Значит, - зевая, говорил я, - значит, пьеса моя не пойдет?Значит, все пропало?
Бомбардов пристально поглядел на меня и сказал с неожиданнойдля него теплотой в голосе:
- Готовьтесь претерпеть все. Не стану вас обманывать. Она непойдет. Разве что чудо...
Приближался осенний, скверный, туманный рассвет за окном. Но,несмотря на то, что были противные объедки, в блюдечках грудыокурков, я, среди всего этого безобразия, еще раз поднятый какой-топоследней, по-видимому, волной, начал произносить монолог о золотомконе.
Я хотел изобразить моему слушателю, как сверкают искорки назолотом крупе коня, как дышит холодом и своим запахом сцена, какходит смех по залу... Но главное было не в этом. Раздавив в азартеблюдечко, я страстно старался убедить Бомбардова в том, что я, лишьтолько увидел коня, как сразу понял и сцену, и все ее мельчайшиетайны. Что, значит, давным-давно, еще, быть может, в детстве, а можетбыть, и не родившись, я уже мечтал, я смутно тосковал о ней. И вотпришел!
- Я новый, - кричал я, - я новый! Я неизбежный, япришел!
Тут какие-то колеса поворачивались в горящем мозгу, ивыскакивала Людмила Сильвестровна, взвывала, махала кружевнымплатком.
- Не может она играть! - в злобном исступлении хрипеля.
Но позвольте!.. Нельзя же.
- Попрошу не противоречить мне, - сурово говорил я, - выпритерпелись, я же новый, мой взгляд остр и свеж! Я вижу сквозьнее.
- Однако!
- И никакая те... теория ничего не поможет! А вот таммаленький, курносый, чиновничка играет, руки у него белые, голоссиплый, но теория ему не нужна, и этот, играющий убийцу в черныхперчатках... не нужна ему теория!
- Аргунин... - глухо донеслось до меня из-за завесыдыма.
- Не бывает никаких теорий! - окончательно впадая всамонадеянность, вскрикивал я и даже зубами скрежетал и тутсовершенно неожиданно увидел, что на сером пиджаке у меня большоемасляное пятно с прилипшим кусочком луку. Я растерянно оглянулся. Небыло ночи и в помине. Бомбардов потушил лампу, и в синеве сталивыступать все предметы во всем своем уродстве.
Ночь была съедена, ночь ушла
Глава 14. ТАИНСТВЕННЫЕ ЧУДОТВОРЦЫУдивительно устроена человеческая память. Ведь вот, кажется, инедавно все это было, а между тем восстановить события стройно ипоследовательно нет никакой возможности. Выпали звенья из цепи!Кой-что вспоминаешь, прямо так и загорится перед глазами, а прочеераскрошилось, рассыпалось, и только одна труха и какой-то дождик впамяти. Да, впрочем, труха и есть. Дождик? Дождик? Ну, месяц, сталобыть, который пошел вслед за пьяной ночью, был ноябрь. Ну, тут,конечно, дождь вперемежку с липким снегом. Ну, вы Москву знаете, надополагать? Стало быть, описывать ее нечего. Чрезвычайно нехорошо на ееулицах в ноябре. И в учреждениях тоже нехорошо. Но это бы еще сполгоря, худо, когда дома нехорошо. Чем, скажите мне, выводить пятнас одежды? Я пробовал и так и эдак, и тем и другим. И ведьудивительная вещь: например, намочишь бензином, и чудныйрезультат - пятно тает, тает и исчезает. Человек счастлив, ибо ничтотак не мучает, как пятно на одежде. Неаккуратно, нехорошо, портитнервы. Повесишь пиджак на гвоздик, утром встанешь - пятно на прежнемместе и пахнет чуть-чуть бензином. То же самое после кипятку, спитогочаю, одеколону. Вот чертовщина! Начинаешь злиться, дергаться, ноничего не сделаешь. Нет, видно, кто посадил себе пятно на одежду, такуж с ним и будет ходить до тех самых пор, пока не сгниет и не будетсброшен навсегда самый костюм. Мне-то теперь уж все равло - но другимпожелаю, чтобы их было как можно меньше
Итак, я выводил пятно и не вывел, потом, помнится, вселопались шнурки на ботинках, кашлял и ежедневно ходил в "Вестник",страдал от сырости и бессонницы, а читал как попало и бог знает что
Обстоятельства же сложились так, что людей возле меня не стало
Ликоспастов почему-то уехал на Кавказ, приятеля моего, у которого япохищал револьвер, перевели на службу в Ленинград, а Бомбардовзаболел воспалением почек, и его поместили в лечебницу. Изредка яходил его навещать, но ему, конечно, было не до разговоров о театре
И понимал он, конечно, что как-никак, а после случая с "Чернымснегом" дотрагиваться до этой темы не следует, а до почек можно,потому что здесь все-таки возможны всякие утешения. Поэтому о почкахи говорили, даже Кли в шуточном плане вспоминали, но было как-тоневесело.
Всякий раз, впрочем, как я видел Бомбардова, я вспоминал отеатре, но находил в себе достаточно воли, чтобы ни о чем его неспросить. Я поклялся себе вообще не думать о театре, но клятва эта,конечно, нелепая. Думать запретить нельзя. Но можно запретитьсправляться о театре. И это я себе запретил.
А театр как будто умер и совершенно не давал о себе знать
Никаких известий из него не приходило. От людей, повторяю, удалился
Ходил в букинистические лавки и по временам сидел на корточках, вполутьме, роясь в пыльных журналах и, помнится, видел чудеснуюкартинку... триумфальная арка...
Тем временем дожди прекратились, и совершенно неожиданноударил мороз. Окно разделало узором в моей мансарде, и, сидя у окна идыша на двугривенный и отпечатывая его на обледеневшей поверхности, японял, что писать пьесы и не игратьих - невозможно.
Однако из-под полу по вечерам доносился вальс, один и тот же(кто-то разучивал его), и вальс этот порождал картинки в коробочке,довольно странные и редкие. Так, например, мне казалось, что внизупритон курильщиков опиума, и даже складывалось нечто, что я развязно