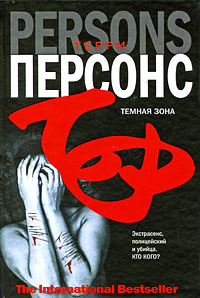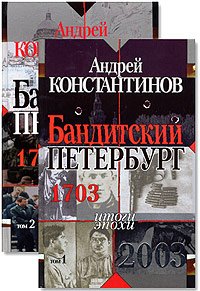Книга "Театральный роман". Страница 37
возвращался с репетиции домой, рассуждая так:
- Да, это все удивительно. Но удивительно лишь потому, что яв этом деле профан. Каждое искусство имеет свои законы, тайны иприемы. Дикарю, например, покажется смешным и странным, что человекчистит щеткой зубы, набивая рот мелом. Непосвященному кажетсястранным, что врач, вместо того чтобы сразу приступить к операции,проделывает множество странных вещей с больным, например, берет кровьна исследование и тому подобное...
Более всего я жаждал на следующей репетиции увидеть окончаниеистории с велосипедом, то есть посмотреть, удастся ли Патрикеевупроехать "для нее".
Однако на другой день о велосипеде никто и не заикнулся, и яувидел другие, но не менее удивительные вещи. Тот же Патрикеев долженбыл поднести букет возлюбленной. С этого и началось в двенадцатьчасов дня и продолжалось до четырех часов.
При этом подносил букет не только Патрикеев, но по очередивсе: и Елагин, игравший генерала, и даже Адальберт, исполняющий рольпредводителя бандитской шайки. Это меня чрезвычайно изумило. Но Фомаи тут успокоил меня, объяснив, что Иван Васильевич поступает, каквсегда, чрезвычайно мудро, сразу обучая массу народа какому-нибудьсценическому приему. И действительно, Иван Васильевич сопровождалурок интересными и назидательными рассказами о том, как нужноподносить букеты дамам и кто их как подносил. Тут же я узнал, чтолучше всего это делали все тот же Комаровский-Бионкур (ЛюдмилаСильвестровна вскричала, нарушая порядок репетиции: "Ах, да, да, ИванВасильевич, не могу забыть!") и итальянский баритон, которого ИванВасильевич знавал в Милане в 1889 году.
Я, правда, не зная этого баритона, могу сказать, что лучше всехподносил букет сам Иван Васильевич
Он увлекся, вышел на сцену и показал раз тринадцать, какнужно сделать этот приятный подарок. Вообще, я начал убеждаться, чтоИван Васильевич удивительный и действительно гениальныйактер.
На следующий день я опоздал на репетицию и, когда явился,увидел, что рядышком на стульях на сцене сидят Ольга Сергеевна(актриса, игравшая героиню), и Вешнякова (гостья), и Елагин, иВладычинский, и Адальберт, и несколько мне неизвестных и по командеИвана Васильевича "раз, два, три" вынимают из карманов невидимыебумажники, пересчитывают в них невидимые деньги и прячут ихобратно.
Когда этот этюд закончился (а поводом к нему, как я понял,служило то, что Патрикеев в этой картине считал деньги), началсядругой этюд. Масса народу была вызвана Андреем Андреевичем на сценуи, усевшись на стульях, стала невидимыми ручками на невидимой бумагеи столах писать письма и их заклеивать (опять-таки Патрикеев!). Фокусзаключался в том, что письмо должно было бытьлюбовное.
Этюд этот ознаменовался недоразумением: именно - в числописавших, по ошибке, попал бутафор.
Иван Васильевич, подбодряя выходивших на сцену и плохо зная влицо новых, поступивших в этом году в подсобляющий состав, вовлек всочинение воздушного письма юного вихрастого бутафора, мыкавшегося скраю сцены.
- А вам что же, - закричал ему Иван Васильевич, - вам отдельноеприглашение посылать?
Бутафор уселся на стул и стал вместе со всеми писать ввоздухе и плевать на пальцы. По-моему, он делал это не хуже других,но при этом как-то сконфуженно улыбался и былкрасен.
Это вызвало окрик Ивана Васильевича:
- А это что за весельчак с краю? Как его фамилия? Он, можетбыть, в цирк хочет поступить? Что занесерьезность?
- Бутафор он! Бутафор, Иван Васильевич! - застонал Фома, аИван Васильевич утих, а бутафора выпустили смиром.
И дни потекли в неустанных трудах. Я перевидал очень много
Видел, как толпа актеров на сцене, предводительствуемая ЛюдмилойСильвестровной (которая в пьесе, кстати, неучаствовала), с криками бежала по сцене и припадала к невидимымокнам.
Дело в том, что все в той же картине, где и букет и письмо,была сцена, когда моя героиня подбегала к окну, увидев в нем дальнеезарево.
Это и дало повод для большого этюда. Разросся этот этюднеимоверно и, скажу откровенно, привел меня в самое мрачноенастроение духа.
Иван Васильевич, в теорию которого входило, между прочим,открытие о том, что текст на репетициях не играет никакой роли и чтонужно создавать характеры в пьесе, играя на своем собственном тексте,велел всем переживать это зарево.
Вследствие этого каждый бегущий к окну кричал то, что емуказалось нужным кричать.
- Ах, боже, боже мой!! - кричали больше всего.
- Где горит? Что такое? - восклицал Адальберт.
Я слышал мужские и женские голоса, кричавшие:
- Спасайтесь! Где вода? Это горит Елисеев!! (Черт знает чтотакое!) Спасите! Спасайте детей! Это взрыв! Вызвать пожарных! Мыпогибли!
Весь этот гвалт покрывал визгливый голос ЛюдмилыСильвестровны, которая кричала уж вовсе какую-то чепуху:
- О, боже мой! О, боже всемогущий! Что же будет с моимисундуками?! А бриллианты, а мои бриллианты!!
Темнея, как туча, я глядел на заламывавшую руки ЛюдмилуСильвестровну и думал о том, что героиня моей пьесы произносит толькоодно:
- Гляньте... зарево... - и произносит великолепно, что мнесовсем неинтересно ждать, пока выучится переживать это зарево неучаствующая в пьесе Людмила Сильвестровна. Дикие крики о каких-тосундуках, не имевших никакого отношения к пьесе, раздражали меня дотого, что лицо начинало дергаться.
К концу третьей недели занятий с Иваном Васильевичем отчаяниеохватило меня. Поводов к нему было три. Во-первых, я сделаларифметическую выкладку и ужаснулся. Мы репетировали третью неделю, ивсе одну и ту же картину. Картин же было в пьесе семь. Стало быть,если класть только по три недели на картину...
- О господи! - шептал я в бессоннице, ворочаясь на диванедома, - трижды семь... двадцать одна неделя или пять... да, пять... ато и шесть месяцев!! Когда же выйдет моя пьеса?! Через неделюначнется мертвый сезон, и репетиций небудет до сентября! Батюшки! Сентябрь, октябрь, ноябрь...
Ночь быстро шла к рассвету. Окно было раскрыто, но прохладыне было. Я приходил на репетиции с мигренью, пожелтел иосунулся.
Второй же повод для отчаяния был еще серьезнее. Этой тетрадия могу доверить свою тайну: я усомнился в теории Ивана Васильевича
Да! Это страшно выговорить, но это так.
Зловещие подозрения начали закрадываться в душу уже к концупервой недели. К концу второй я уже знал, что для моей пьесы этатеория неприложима, по-видимому. Патрикеев не только не стал лучшеподносить букет, писать письмо или объясняться в любви. Нет! Он сталкаким-то принужденным и сухим и вовсе не смешным. А самое главное,внезапно заболел насморком.
Когда о последнем обстоятельстве я в печали сообщилБомбардову, тот усмехнулся и сказал:
- Ну, насморк его скоро пройдет. Он чувствует себя лучше ивчера и сегодня играл в клубе на бильярде. Как отрепетируете этукартину, так его насморк и кончится. Вы ждите: еще будут насморки удругих. И прежде всего, я думаю, у Елагина.
- Ах, черт возьми! - вскричал я, начиная понимать.
Предсказание Бомбардова и тут сбылось. Через день исчез срепетиции Елагин, и Андрей Андреевич записал в протокол о нем:"Отпущен с репетиции. Насморк". Та же беда постигла Адальберта. Та жезапись в протоколе. За Адальбертом - Вешнякова. Я скрежетал зубами,присчитывая в своей выкладке еще месяц на насморки. Но не осуждал ниАдальберта, ни Патрикеева. В самом деле, зачем предводителюразбойников терять время на крики о несуществующем пожаре в четвертойкартине, когда его разбойничьи и нужные ему дела влекли его к работев картине третьей, а также и пятой.
И пока Патрикеев, попивая пиво, играл с маркером вамериканку, Адальберт репетировал шиллеровских "Разбойников" в клубена Красной Пресне, где руководил театральным кружком.
Да, эта система не была, очевидно, приложима к моей пьесе, апожалуй, была и вредна ей. Ссора между двумя действующими лицами вчетвертой картине повлекла за собой фразу:
- Я тебя вызову на дуэль!
И не раз в ночи я грозился самому себе оторвать руки зато, что я трижды проклятую фразу написал.
Лишь только ее произнесли, Иван Васильевич очень оживился ивелел принести рапиры. Я побледнел. И долго смотрел, как Владычинский