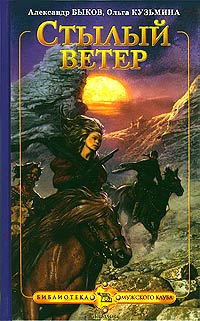Книга "Заметки юного врача". Страница 38
- Доктор! - воскликнула она хрипловатым голосом. Клянусьвам, я не виновата. Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули интеллигентный...
- В чем дело?!
Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила: Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину счел сразу! Вполночь.???
Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убиралжелудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полонбуроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, доподбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торча дыбом.Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочилблагополучно.
- Ну, как? - спросил я.
- Тьма египетская в глазах... О... ох... - слабым басомотозвался мельник.
- У меня тоже! - раздраженно ответил я.
- Ась? - отозвался мельник (слышал он еще плохо) .
- Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! - вухо погромче крикнул я.
И мрачный и неприязненный бас отозвался:
- Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку?Сразу принял - и делу конец.
- Это чудовищно! - воскликнул я.
- Анекдот-с! - как бы в язвительном забытьи отозвалсяфельдшер...???
"Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я..." И сладкий сонпосле трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьмаегипетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то состетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моярать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Ивановна. Все вбелых халатах, и все вперед, вперед...
Сон - хорошая штука!..
МорфийДавно уже отмечено умными людьми, что счастье как здоровье: когда оно налицо,его не замечаешь. Но когда пройдут годы, - как вспоминаешь о счастье, о, каквспоминаешь!Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году,зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год.Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла сесли кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесахлетом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывалбандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точносчастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды за 18 веретв санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество! И вот я увидел ихвновь, наконец, обольстительные электрические лампочки и главная улица городка,хорошо укатанная крестьянски саня, улица, на которой, чаруя взор, висели вывеска с сапогами, золотой крендель, изобрежение молодого человека со свины инаглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что застеянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас бритьво всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечествомое.До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшиенеотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней,на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке укакого-то гражданина.Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний! На перекрестке стоялживой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы стесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали,и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащимив себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московскиепоезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение,терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиялавтоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. Вбольнице был старший врач, три ординатора (кроме меня). Фельдшера, акушерки,сиделка, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовскиммикроскопом, прекрасным запасом красок.Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатлея. Немало дней прошло, пока я непривык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словнопо команде, загорались электрическим светом.Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганныетермометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь деньвспывали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...Сиделки бегали, носились...Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковойответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват вущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину споперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции.Я почувствовал себя впервые человеком, обчем ответственности которого ограниченкакими-то рамками. Роды? Пожалуйста, вон - низенький корпус, вон - крайнееокно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, срыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну смарлей! Осложненный перелом - главный врач-хирург. Воспаление легких? - В