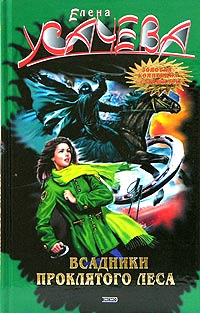Книга "Заметки юного врача". Страница 71
- Еще минуточку проживет, - одними губами, без звука в ухосказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли,замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если нев операционной скончается.
- Гипс давайте, - сипло отозвался я, толкаемый неизвестнойсилой.
Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту.Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом,и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на местеперелома.
- Живет... - удивленно хрипнул фельдшер.
Затем ее стали подымать, и под простыней бы виденгигантский провал - треть ее тела мы оставили в операционной.
Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и явидел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура ииздала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.
В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.
- Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? - вдругспросила Анна Николаевна. - Очень, очень хорошо... Не хужеЛеопольда...
В ее устах слово "Леопольд" неизменно звучало, как"Дуайен".
Я исподлобья взглянул на лица. И у всех - и у ДемьянаЛукича и у Пелагеи Ивановны - заметил в глазах уважение иудивление.
- Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...
Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.
В больнице стихло. Совсем.
- Когда умрет, обязательно пришлите за мной, - вполголосаприказ я фельдшеру, и он почему-то вместо "хорошо" ответилпочтительно:
- Слушаю-с...
Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинетедокторской квартиры. Дом молчал.
Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.
"Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли,постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчаспостучат... Скажут "умерла"...
Да, пойду я и погляжу в последний раз... Сейчас раздастсястук...???
В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца.В окне сиял один из первых зимних дней.
Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительночерты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.
Затем шелест... на двух костылях впрыгнула очаровательнойкрасоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолукрасной каймой.
Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.
- В Москве... в Москве... - И я стал писать адрес - тамустроят протез, искусственную ногу.
- Руку поцелуй, - вдруг неожиданно сказал отец.
Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.
Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, ивыпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственнымкрасным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку наосмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.
- Не возьму, - сурово сказал я и даже головой замотал. Ноу нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...
И много лет оно висало у меня в спальне в Мурьеве, потомстранствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось,продырявилось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.
Вьюга
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя
Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающейАксиньи, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьево,влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающаябеднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказалсебе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно,что серые полоски на конторских штанах решили судьбунесчастного человека. Дочка агронома согласилась стать егоженой.
Я же - врач Н-ской больницы, участка, такой-то губернии,после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна,прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть непогиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездитьсто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моихпациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут- восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, крометого, у меня было стационарное отделение на тридцать человек.И, кроме того, я ведь делал операции.
Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часоввечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел,кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды.
И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозилираз пять.
Темная влажность появилась у меня в глазах, а надпереносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью явидел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, аруки свои в человеческой крови и просыпался, липкий ипрохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.
На обходе я шел стремительной поступью, за мною мелофельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь упостели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек,я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы моишарили по сухой, пылающей коже, я смотрел на зрачки, постукивалпо ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и несв себе одну мысль - как его спасти? И этого - спасти. И этого!Всех.
Шел бой. Каждый день он начинался утром при бледном светеснега, а кончался при желтом мигалии пылкой лампы свете снега,а кончался при желтом мигании пылкой лампы "молнии".
"Чем это кончится, мне интересно было бы знать? - говориля сам себе ночью. - Ведь этак будут ездить на санях и в январе,и в феврале, и в марте."
Я написал к Грачевку и вежливо напомнил о том, что наН-ском участке полагается и второй врач.