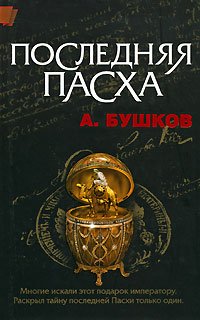Книга "Суходол". Страница 5
кие легонькие сапожки, что их впору было царскому сыну носить; и всегострашнее и праздничнее было за садом, в заброшенной бане, где хранилосьдвойное зеркальце в тяжелой серебряной оправе, - за садом, куда, покаеще все спали, по росистым зарослям, тайком бежала Наташка, чтоб насладиться обладанием своего сокровища, вынести его на порог, раскрыть прижарком утреннем солнце и насмотреться на себя до головокруженья, а потомопять скрыть, схоронить и опять бежать, прислуживать все утро тому, накого она и глаз поднять не смела, для кого она, в безумной надежде понравиться, и заглядывалась-то в зеркальце.
Но сказка об аленьком цветочке кончилась скоро, очень скоро. Кончилась позором и стыдом, которому нет имени, как думала Наташка... Кончилась тем, что сам же Петр Петрович приказал остричь, обезобразить ее,принаряжавшуюся, сурьмившую брови перед зеркальцем, создавшую какую-тосладкую тайну, небывалую близость между ним и собой. Он сам открыл ипревратил ее преступление в простое воровство, в глупую проделку дворовой девчонки, которую, в затрапезной 0убахе, с лицом, опухшим от слез,на глазах всей дворни, посадили на навозную телегу и, опозоренную, внезапно оторванную от всего родного, повезли на какой-то неведомый, страшный хутор, в степные дали. Она уже знала: там, на хуторе, она должна будет стеречь цыплят, индюшек и бахчи; там она спечется на солнце, забытаявсем светом; там, как годы, будут долги степные дни, когда в зыбком мареве тонут горизонты и так тихо, так знойно, что спал бы мертвым сномвесь день, если бы не нужно было слушать осторожный треск пересохшегогороха, домовитую возню наседок в горячей земле, мирно-грустную перекличку индюшек, не следить за набегающей сверху, жуткой тенью ястреба ине вскакивать, не кричать тонким протяжным голосом: "Шу-у!.." Там, нахуторе, чего стоила одна старуха-хохлушка, получившая власть над еежизнью и смертью и, верно, уже с нетерпением поджидавшая свою жертву!Единственное преимущество имела Наташка перед теми, которых везут насмертную казнь: возможность удавиться. И только одно это и поддерживалоее на пути в ссылку, - конечно, вечную, как полагала она.
На пути из конца в конец уезда чего только она не насмотрелась! Да недо того ей было. Она думала или, скорее, чувствовала одно: жизнь кончена, преступление и позор слишком велики, чтобы надеяться на возвращениек ней! Пока еще оставался возле нее близкий человек, Евсей Бодуля. Ночто будет, когда он сдаст ее с рук на руки хохлушке, переночует и уедет,навеки покинет ее в чужой стороне? Наплакавшись, она захотела есть. ИЕвсей, к удивлению ее, взглянул на это очень просто и, закусывая, разговаривал с ней так, как будто ничего не случилось. А потом она заснула и очнулась уже в городе. И город поразил ее только скукой, сушью, духотой да еще чем-то смутно-страшным, тоскливым, что похоже было на сон,который не расскажешь. Запомнилось за этот день только то, что оченьжарко летом в степи, что бесконечнее летнего дня и длиннее больших дорогнет ничего на свете. Запомнилось, что есть места на городских улицах,выложенные камнями, по которым престранно гремит телега, что издалекапахнет город железными крышами, а среди площади, где отдыхали и кормилилошадь, возле пустых под вечер "обжорных" навесов, - пылью, дегтем, гниющим сеном, клоки которого, перебитые с конским навозом, остаются настоянках мужиков. Евсей отпряг и поставил лошадь к телеге, к корму;сдвинул на затылок горячую шапку, вытер рукавом пот и, весь черный отзноя, ушел в харчевню. Он строго-настрого приказал Наташке "поглядывать"и, в случае чего, кричать на всю площадь. И Наташка сидела, не двигаясь,не сводила глаз с купола тогда только что построенного собора, огромнойсеребряной звездой горевшего где-то далеко за домами, - сидела до техпор, пока не вернулся жующий, повеселевший Евсей и не стал, с калачомпод мышкой, снова заводить лошадь в оглобли.
- Припоздали мы с тобой, королевишна, маленько! - оживленно бормоталон, обращаясь не то к лошади, не то к Наташке. Ну, да авось не удавят!Авось не на пожар... Я и назад гнать не стану, - мне, брат, барская лошадь подороже твоего хайла, - говорил он, уже разумея Демьяна. - Разинулхайло: "Ты у меня смотри! Я, в случае чего, догляжусь, что у тебя впортках-то..." А-ах! - думаю... Взяла меня обида поперек живота! С меня,мол, господа, и те еще не спускали порток-то... не тебе чета, чернонёбому. - "Смотри!" - А чего мне смотреть? Авось не дурей тебя. Захочу - исовсем не ворочусь: девку доправ-лю, а сам перекрещусь да потуда меня ивидели... Я и на девку-то дивуюсь: чего, дура, затужила? Ай свет клиномсошелся? Пойдут чумаки либо старчики какие мимо хуторя - только словосказать: в один мент за Ростовым-батюшкой очутишься... А там и поминайкак звали!
И мысль: "удавлюсь" - сменилась в стриженой голове Наташки мыслью обегстве. Телега заскрипела и закачалась. Евсей смолк и повел лошадь кколодцу среди площади. Там, откуда приехали, опускалося солнце забольшой монастырский сад, и окна в желтом остроге, что стоял против монастыря, через дорогу, сверкали золотом. И вид острога на минуту ещебольше возбудил мысль о бегстве. Вона, и в бегах живут! Только вот говорят, что старчики выжигают ворованным девкам и ребятам глаза кипяченыммолоком и выдают их за убогеньких, а чумаки завозят к морю и продают нагайцам... Случается, что и ловят господа своих беглых, забивают их вкандалы, в острог сажают... Да авось и в остроге не быки, а мужики, какговорит Герваська!
Но окна в остроге гасли, мысли путались, - нет, бежать еще страшнее,чем удавиться! Да смолк, отрезвел и Евсей.
- Припоздали, девка, - уже беспокойно говорил он, вскакивая боком нагрядку телеги.
И телега, выбравшись на шоссе, опять затряслась, забилась, шибко загремела по камням... "Ах, лучше-то всего было бы назад повернуть ее, - нето думала, не то чувствовала Наташка, - повернуть, доскакать до Суходола- и упасть господам в ноги!" Но Евсей погонял. Звезды за домами уже небыло. Впереди была белая голая улица, белая мостовая, белые дома - и всеэто замыкалось огромным белым собором под новым беложестяным куполом, инебо над ним стало бледно-синее, сухое. А там, дома, в это время уже роса падала, сад благоухал свежестью, пахло из топившейся поварской; далеко за равнинами хлебов, за серебристыми тополями на окраинах сада, застарой заветной баней догорала заря, а в гостиной были отворены двери набалкон, алый свет мешался с сумраком в углах, и желто-смуглая, черноглазая, похожая и на дедушку и на Петра Петровича барышня поминутно оправляла рукава легкого и широкого платья из оранжевого шелка, пристальносмотрела в ноты, сидя спиной к заре, ударяя по желтым клавишам, наполняягостиную торжественно-певучими, сладостно-отчаянными звуками полонезаОгинского и как будто не обращая никакого внимания на стоявшего за неюофицера - приземистого, темноликого, подпиравшего талию левой рукою исосредоточенно-мрачно следившего за ее быстрыми руками...
"У ней - свой, а у меня - свой", - не то думала, не то чувствовалаНаташка в такие вечера с замиранием сердца и бежала в холодный, росистыйсад, забивалась в глушь крапивы и остро пахнущих, сырых лопухов и стояла, ждала несбыточного, - того, что сойдет с балкона барчук, пойдет поаллее, увидит ее и, внезапно свернув, приблизится к ней быстрыми шагами- и она не проронит от ужаса и счастья ни звука...
А телега гремела. Город был вокруг, жаркий и вонючий, тот самый, чтопредставлялся прежде чем-то волшебным. И Наташка с болезненным удивлением глядела на разряженный народ, идущий взад и вперед по камням возледомов, ворот и лавок с раскрытыми дверями... "И зачем поехал тут Евсей,- думала она, - как решился он греметь тут телегой?"
Но проехали мимо собора, стали спускаться к мелкой реке по ухабистымпыльным косогорам, мимо черных кузниц, мимо гнилых мещанских лачуг..
Опять знакомо запахло пресной теплой водой, илом, полевой вечерней свежестью. Первый огонек блеснул вдали, на противоположной горе, в одинокомдомишке близ шлагбаума... Вот и совсем выбрались на волю, переехалимост, поднялись к шлагбауму - и глянула в глаза каменная, пустынная дорога, смутно белеющая и убегающая в бесконечную даль, в синь степнойсвежей ночи. И лошадь пошла мелкой рысцой, а миновав шлагбаум, и совсемшагом. И опять стало слышно, что тихо, тихо ночью и на земле и в небе,только где-то далеко плачет колокольчик. Он плакал все слышнее, все певучее и слился наконец с дружным топотом тройки, с ровным стуком бегущихпо шоссе и приближающихся колес... Тройкой правил вольный молодой ямщик,а в бричке, уткнувши подбородок в шинель с капюшоном, сидел офицер. Поравнявшись с телегой, на мгновение поднял он голову - и вдруг увиделаНаташка красный воротник, черные усы, молодые глаза, блеснувшие под каской, похожей на ведерко... Она вскрикнула, помертвела, потеряла сознание...
Озарила ее безумная мысль, что это Петр Петрович, и, по той боли инежности, которая молнией прошла ее нервное дворовое сердце, она вдругпоняла, чего она лишилась: близости к нему... Евсей кинулся поливать еестриженую, отвалившуюся голову водой из дорожного жбана.
Тогда она очнулась от приступа тошноты - и торопливо перекинула голову за грядку телеги. Евсей торопливо подложил под ее холодный лоб ладонь...
А потом, облегченная, озябнувшая, с мокрым воротом, лежала она наспине и смотрела на звезды. Перепугавшийся Евсей молчал, думая, что онауснула, - только головой покачивал, - и погонял, погонял. Телега тряслась и убегала. А девчонке казалось, что у нее нет тела, что теперь унее - одна душа. И душе этой было "так хорошо, ровно в царстве небесном"...
Аленьким цветочком, расцветшим в сказочных садах, была ее любовь. Нов степь, в глушь, еще более заповедную, чем глушь Суходола, увезла оналюбовь свою, чтобы там, в тишине и одиночестве, побороть первые, сладкиеи жгучие муки ее, а потом надолго, навеки, до самой гробовой доски схоронить ее в глубине своей суходольской души