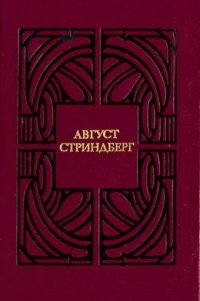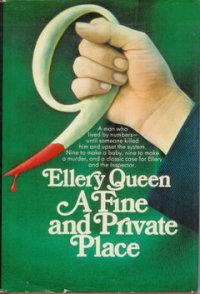Книга "ХОЗЯЙКА". Страница 13
припадок болезни. Вино ж было крепкое, так что с одной выпитой чарки всеболее и более мутились глаза Ордынова. Лихорадочно воспаленная кровь его немогла долее выдержать: она заливала его сердце, мутила и путала разум
Беспокойство его росло все сильнее и сильнее. Он налил и отхлебнул еще, самне зная, что делает, чем помочь возраставшему волнению своему, и кровь ещебыстрее полетела по его жилам. Он был как в бреду и едва мог следить,напрягая все внимание, за тем, что происходило между странных хозяев его.
Старик звонко стукнул серебряной чаркой об стол.
- Наливай, Катерина! - вскричал он. - Наливай еще, злая дочка, наливайдо упаду! Уложи старика на покой, да и полно с него! Вот так, наливай еще,наливай мне, красавица! Выпьем с тобой! Что ж ты мало пила? Али я невидал...
Катерина что-то отвечала ему, но Ордынов не расслышал, что именно:старик не дал ей кончить; он схватил ее за руку, как бы не в силах болеесдержать всего, что теснилось в груди его. Лицо его было бледно; глаза томутились, то вспыхивали ярким огнем; побелевшие губы дрожали, и неровным,смятенным голосом, в котором сверкал минутами какой-то странный восторг, онсказал ей:
- Давай ручку, красавица! давай загадаю, всю правду скажу. Я и впрямьколдун; знать, не ошиблась ты, Катерина! знать, правду сказало сердечкотвое золотое, что один я ему колдун, и правды не потаю от него, простого,нехитрого! Да одного не спознала ты: не мне, колдуну, тебя учитьуму-разуму! Разум не воля для девицы, и слышит всю правду, да словно незнала, не ведала! У самой голова - змея хитрая, хоть и сердце слезойобливается! Сама путь найдет, меж бедой ползком проползет, сбережет волюхитрую! Где умом возьмет, а где умом не возьмет, красой затуманит, чернымглазом ум опьянит, - краса силу ломит; и железное сердце, да пополамраспаяется! Уж и будет ли у тебя печаль со кручинушкой? Тяжела печальчеловеческая! Да на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким сердцемзнакомится, втихомолку кровавой слезой отливается да на сладкий позор кдобрым людям не просится: твое ж горе, девица, словно след на песке, дождемвымоет, солнцем высушит, буйным ветром снесет, заметет! Пусть и еще скажу,поколдую: кто полюбит тебя, тому ты в рабыни пойдешь, сама волюшку свяжешь,в заклад отдашь, да уж и назад не возьмешь; в пору во-время разлюбить несумеешь; положишь зерно, а губитель твой возьмет назад целым колосом! Дитямое нежное, золотая головушка, схоронила ты в чарке моей своюслезинку-жемчужинку, да по ней не стерпела, тут же сто пролила, словцокрасное потеряла, да горем-головушкой своей похвалилася! Да по ней, послезинке, небесной росинке, тебе и тужить-горевать не приходится! Отольетсяона тебе с лихвою, твоя слезинка жемчужная, в долгую ночь, в горемычнуюночь, когда станет грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка - тогда натвое сердце горячее, все за ту же слезинку, капнет тебе чья-то иная слеза,да кровавая, да не теплая, а словно топленый свинец; до крови белу грудьразожжет, и до утра, тоскливого, хмурого, что приходит в ненастные дни, тыв постельке своей прометаешься, алу кровь точа, и не залечишь своей ранкисвежей до другого утра! Налей еще, Катерина, налей, голубица моя, налей мнеза мудрый совет; а дальше, знать, слов терять нечего...
Голос его ослабел и задрожал: казалось, рыдание готово было прорватьсяиз груди его... Он налил вина и жадно выпил новую чару; потом снова стукнулчаркой об стол. Мутный взгляд его еще раз вспыхнул пламенем.
- А! живи, как живется! - вскричал он. - Что пропало, то уж с плечдолой! Наливай мне, еще наливай, все подноси тяжелую чару, чтобы резалаголовушку буйную с плеч, чтоб вся душа от нее замертвела! Уложи на долгуюночь, да без утра, да чтобы память совсем отошла. Что пропито, то прожито!Знать, заглох у купца товар, залежался, даром с рук отдает! А не продал бысвоей волей-вольною его тот купец ниже своей цены, отлилась бы и вражьякровь, пролилась бы и кровь неповинная да в придачу положил бы тот покупщиксвою погибшую душеньку! Наливай, наливай мне еще, Катерина!..
Но рука его, державшая чару, как будто замерла и не двигалась; ондышал тяжело и трудно, голова его невольно склонилась. В последний раз онвперил тусклый взгляд на Ордынова, но и этот взгляд потух наконец, и векиего упали, словно свинцовые. Смертная бледность разлилась по лицу его..
Еще несколько времени губы его шевелились и вздрагивали, как бы силясь ещечто-то промолвить, - и вдруг слеза, горячая, крупная, нависла с ресниц его,порвалась и медленно покатилась по бледной щеке... Ордынов был не в силахвыдержать более. Он привстал и, пошатнувшись, ступил шаг вперед, подошел кКатерине и схватил ее за руку; но она и не взглянула на него, как будто егоне приметила, как будто не признала его...
Она как будто тоже теряла сознание, как будто одна мысль, однанеподвижная идея увлекла ее всю. Она припала к груди спящего старика,обвила своей белой рукой его шею и пристально, словно приковалась к нему,смотрела на него огневым, воспаленным взглядом. Она будто не слыхала, какОрдынов взял ее за руку. Наконец она повернула к нему свою голову ипосмотрела на него долгим, пронзающим взглядом. Казалось, что она поняланаконец его, и тяжелая, удивленная улыбка, тягостно, как будто с болью,выдавилась на губах ее...
- Поди, поди прочь, - прошептала она, - ты пьяный и злой! Ты не гостьмне!.. - Тут она снова обратилась к старику и опять приковалась к немусвоими очами.
Она как будто стерегла каждое дыхание его и взглядом своим лелеяла егосон. Она как будто боялась сама дохнуть, сдерживая вскипевшее сердце. Истолько исступленного любования было в сердце ее, что разом отчаяние,бешенство и неистощимая злоба захватили дух Ордынова...
- Катерина! Катерина! - звал он, сжимая, как в тисках, ее руку.
Чувство боли прошло по лицу ее; она опять подняла свою голову ипосмотрела на него с такою насмешкой, так презрительно-нагло, что он едваустоял на ногах. Потом она указала ему на спящего старика и - как будто всянасмешка врага его перешла ей в глаза - терзающим, леденящим взглядом опятьвзглянула на Ордынова.
- Что? зарежет небось? - проговорил Ордынов, не помня себя отбешенства.
Словно демон его шепнул ему на ухо, что он ее понял... И все сердцеего засмеялось на неподвижную мысль Катерины...
- Куплю ж я тебя, красота моя, у купца твоего, коль тебе души моейнадобно! Небось не зарезать ему!..
Неподвижный смех, мертвивший все существо Ордынова, не сходил с лицаКатерины. Неистощимая насмешка разорвала на части его сердце. Не помня,почти не сознавая себя, он облокотился рукою об стену и снял с гвоздядорогой, старинный нож старика. Как будто изумление отразилось на лицеКатерины; но как будто в то же время злость и презрение впервые с такойсилой отразились в глазах ее. Ордынову дурно становилось, смотря на нее..
Он чувствовал, что как будто кто-то вырывал, подмывал потерявшуюся руку егона безумство; он вынул нож... Катерина неподвижно, словно не дыша более,следила за ним..
Он взглянул на старика...
В эту минуту ему показалось, что один глаз старика медленно открывалсяи, смеясь, смотрел на него. Глаза их встретились. Несколько минут Ордыновсмотрел на него неподвижно... Вдруг ему показалось, что все лицо стариказасмеялось и что дьявольский, убивающий, леденящий хохот раздался наконецпо комнате. Безобразная, черная мысль, как змея, проползла в голове его. Онзадрожал; нож выпал из рук его и зазвенел на полу. Катерина вскрикнула, какбудто очнувшись от забытья, от кошмара, от тяжелого, неподвижноговиденья... Старик, бледный, медленно поднялся с постели и злобно оттолкнулногой нож в угол комнаты. Катерина стояла бледная, помертвелая,неподвижная; глаза ее закрывались; глухая, невыносимая боль судорожновыдавилась на лице ее; она закрылась руками и с криком, раздирающим душу,почти бездыханная, упала к ногам старика...
- Алеша! Алеша! - вырвалось из стесненной груди ее...
Старик обхватил ее могучими руками и почти сдавил на груди своей.Нокогда она спрятала у сердца его свою голову, таким обнаженным, бесстыднымсмехом засмеялась каждая черточка на лице старика, что ужасом обдало весьсостав Ордынова. Обман, расчет, холодное, ревнивое тиранство и ужас надбедным, разорванным сердцем - вот что понял он в этом бесстыдно нетаившемся более смехе...
III
Когда Ордынов, бледный, встревоженный, еще не опомнившийся отвчерашней тревоги, отворил на другой день, часов в семь утра, дверь кЯрославу Ильичу, к которому пришел, впрочем сам не зная зачем, тоотшатнулся от изумления и как вкопанный стал на пороге, увидя в комнатеМурина. Старик был еще бледнее Ордынова и, казалось, едва стоял на ногах отболезни; впрочем, сесть не хотел, несмотря ни на какие приглашения вполнесчастливого таким посещением Ярослава Ильича. Ярослав Ильич тоже вскрикнул,завидев Ордынова, но почти в ту же минуту радость его прошла, и какое-тозамешательство застигло его вдруг, совершенно врасплох, на полдороге отстола к соседнему стулу. Очевидно было, что он не знал, что сказать, чтосделать, и вполне сознавал всю неприличность - сосать в такую хлопотливуюминуту, оставив гостя в стороне, одного как он есть, свой чубучок, а междутем (так сильно было смущение его) все-таки тянул из чубучка что было силыи даже почти с некоторым вдохновением. Ордынов вошел наконец в комнату. Онбросил беглый взгляд на Мурина. Что-то похожее на вчерашнюю злую улыбку, откоторой и теперь бросило в дрожь и в негодование Ордынова, проскользнуло полицу старика. Впрочем, все враждебное тотчас же скрылось и сгладилось, ивыражение лица его приняло вид самый неприступный и замкнутый. Он отвесилпренизкий поклон жильцу своему... Вся эта сцена воскресила наконец сознаниеОрдынова. Он пристально посмотрел на Ярослава Ильича, желая вникнуть вположение дела. Ярослав Ильич затрепетал и замялся.
- Войдите ж, войдите, - промолвил он наконец, - войдите,драгоценнейший Василий Михайлович, осените прибытием и положите печать..
на все эти обыкновенные предметы... - проговорил Ярослав Ильич, показаврукой в один угол комнаты, покраснев, как махровая роза, сбившись,