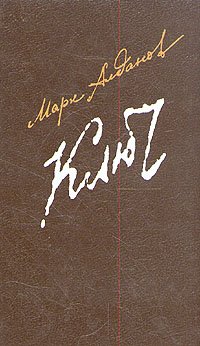Книга "Белая гвардия". Страница 10
сне полез в ящик стола доставать браунинг, сонный, достал, хотелвыстрелить в кошмар, погнался за ним, и кошмар пропал.
Часа два тек мутный, черный, без сновидений сон, а когда уже началосветать бледно и нежно за окнами комнаты, выходящей на застекленнуюверанду, Турбину стал сниться Город.4
Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозеи тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленныхтруб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег.И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна быличерны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколькохватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высокоподвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровнымгудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, пообразцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, итемные воротники - мех серебристый и черный - делали женские лицазагадочными и красивыми.
Сады стояли безмолвные E8 спокойные, отягченные белым, нетронутымснегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Онираскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами,кленами и липами.
Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступамиподнимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою внежных сумерках царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черныебалки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте.Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а терасходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи, над шоссе,вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, вдымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седыепороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.
Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках иверхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучинезамерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий,смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная засолнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дняначинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовыхфонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошныхокнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетномэлектрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были виднынеустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающиесамое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал имерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом итуманом.
Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшегоВладимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, вчерной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-реки, из ивняка, лодкивидели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням.Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил надтемными пологими далями московского берега, от которого были перекинутыдва громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободкуна том берегу, другой - высоченный, стреловидный, по которому прибегалипоезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструюшапку, таинственная Москва.
И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью,которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. Закаменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконныежители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новыхпришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этомустреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.
Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы,оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терятьсвязи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве,домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники,купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские ипетербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы изаристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледныеразвратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоровдепартаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэтыи ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса,просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.
Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялсяпришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромнымиобществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестныелавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе игде можно было купить женщину, новые театры миниатюр, на подмосткахкоторых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры,слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр "Лиловый негр" ивеличественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб "Прах" (поэты режиссеры - артисты - художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышлиновые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и вэтих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскалиседоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струннаямузыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых,истощенных, закокаиненных проституток.
Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассветашелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личностигородские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которыхрусские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы иукраинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе "Максим"соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него быличудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы - бархатные.Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света - вниз белыйэлектрический, а вбок и вверх - оранжевый. Звездою голубого пыльного шелкуразливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты илоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, потом, спиртом ифранцузскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркалидутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горелимашины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистогожиру висели балыки, орлами и печатями томно сверкали бутылки прекрасногошампанского вина "Абрау".
И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появилисьхрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лакомштиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы впенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок вмагазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищнымразрезом. Покупали девкам лак.
Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни одинчерт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новаястрана - Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашиваявизы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше идальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохотбольшевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали примысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще большетосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдругприходили в бессонные ночи на чужих диванах.
- А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынутсерые. Ох, страшно...
Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышалисьмягкие удары пушек - под Городом стреляли почему-то все лето,блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлическиенемцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы наокраинах: па-па-пах.
Кто в кого стрелял - никому не известно. Это по ночам. А днемуспокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или поВладимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатыешапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменныеподбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли однак одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчисидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германскихвождей на памятниках городка Берлина.
Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам,злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:
- А ну, суньтесь!
Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящийхочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла,из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем вресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляютиз маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочникилошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все - купцы, банкиры,промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, членыгосударственного совета, инженеры, врачи и писатели...
Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада - бывшего фронта - и