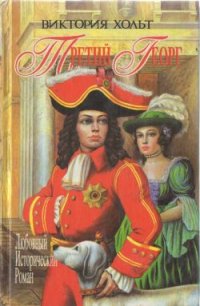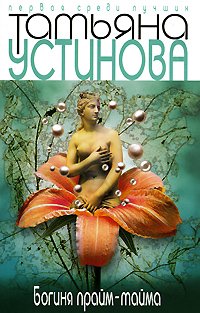Книга "Белая гвардия". Страница 17
Третьего дня конный полк в районе Коростеня открыл огонь по пехотномуполку сечевых стрельцов. В бандах Петлюры наблюдается сильное тяготение кмиру. Видимо, авантюра Петлюры идет к краху. По сообщению того жеперебежчика, полковник Болботун, взбунтовавшийся против Петлюры, ушел внеизвестном направлении со своим полком и 4-мя орудиями. Болботунсклоняется к гетманской ориентации.
Крестьяне ненавидят Петлюру за реквизиции. Мобилизация, объявленная имв деревнях, не имеет никакого успеха. Крестьяне массами уклоняются от нее,прячась в лесах."
- Предположим... ах, мороз проклятый... Извините.
- Батюшка, что ж вы людей давите? Газетки дома надо читать...
- Извините...
"Мы всегда утверждали, что авантюра Петлюры..."
- Вот мерзавец! Ах ты ж, мерзавцы...
Кто честен и не волк, идет в добровольческий полк...
- Иван Иванович, что это вы сегодня не в духе?
- Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит...
Турбин даже в лице изменился от этой остроты, злобно скомкал газету ишвырнул ее на тротуар. Прислушался.
- Бу-у, - пели пушки. У-уух, - откуда-то, из утробы земли, звучало загородом.
- Что за черт?
Турбин круто повернулся, поднял газетный ком, расправил его и прочиталеще раз на первой странице внимательно:
"В районе Ирпеня столкновения наших разведчиков с отдельными группамибандитов Петлюры.
На Серебрянском направлении спокойно.
В Красном Трактире без перемен.
В направлении Боярки полк гетманских сердюков лихой атакой рассеялбанду в полторы тысячи человек. В плен взято 2 человека."
Гу... гу... гу... Бу... бу... бу... - ворчала серенькая зимняя дальгде-то на юго-западе. Турбин вдруг открыл рот и побледнел. Машинальнозапихнул газету в карман. От бульвара, по Владимирской улице чернела иползла толпа. Прямо по мостовой шло много людей в черных пальто...Замелькали бабы на тротуарах. Конный, из Державной варты, ехал, словнопредводитель. Рослая лошадь прядала ушами, косилась, шла боком. Рожа увсадника была растерянная. Он изредка что-то выкрикивал, помахиваянагайкой для порядка, и выкриков его никто не слушал. В толпе, в переднихрядах, мелькнули золотые ризы и бороды священников, колыхнулась хоругвь.Мальчишки сбегались со всех сторон.
- "Вести"! - крикнул газетчик и устремился к толпе.
Поварята в белых колпаках с плоскими донышками выскочили из преисподнейресторана "Метрополь". Толпа расплывалась по снегу, как чернила по бумаге.
Желтые длинные ящики колыхались над толпой. Когда первый поравнялся сТурбиным, тот разглядел угольную корявую надпись на его боку: "ПрапорщикЮцевич".
На следующем: "Прапорщик Иванов".
На третьем: "Прапорщик Орлов".
В толпе вдруг возник визг. Седая женщина, в сбившейся на затылок шляпе,спотыкаясь и роняя какие-то свертки на землю, врезалась с тротуара втолпу.
- Что это такое? Ваня?! - залился ее голос. Кто-то, бледнея, побежал всторону. Взвыла одна баба, за нею другая.
- Господи Исусе Христе! - забормотали сзади Турбина. Кто-то давил его вспину и дышал в шею.
- Господи... последние времена. Что ж это, режут людей?.. Да что жэто...
- Лучше я уж не знаю что, чем такое видеть.
- Что? Что? Что? Что? Что такое случилось? Кого это хоронят?
- Ваня! - завывало в толпе.
- Офицеров, что порезали в Попелюхе, - торопливо, задыхаясь от желанияпервым рассказать, бубнил голос, - выступили в Попелюху, заночевали всемотрядом, а ночью их окружили мужики с петлюровцами и начисто всехпорезали. Ну, начисто... Глаза повыкалывали, на плечах погоны повырезали.Форменно изуродовали.
- Вот оно что? Ах, ах, ах...
"Прапорщик Коровин", "Прапорщик Гердт", - проплывали желтые гробы.
- До чего дожили... Подумайте.
- Междоусобные брани.
- Да как же?..
- Заснули, говорят...
- Так им и треба... - вдруг свистнул в толпе за спиной Турбина черныйголосок, и перед глазами у него позеленело. В мгновение мелькнули лица,шапки. Словно клещами, ухватил Турбин, просунув руку между двумя шеями,голос за рукав черного пальто. Тот обернулся и впал в состояние ужаса.
- Что вы сказали? - шипящим голосом спросил Турбин и сразу обмяк.
- Помилуйте, господин офицер, - трясясь в ужасе, ответил голос, - яничего не говорю. Я молчу. Что вы-с? - голос прыгал.
Утиный нос побледнел, и Турбин сразу понял, что он ошибся, схватил нетого, кого нужно. Под утиным барашковым носом торчала исключительнойблагонамеренности физиономия. Ничего ровно она не могла говорить, икруглые глазки ее закатывались от страха.
Турбин выпустил рукав и в холодном бешенстве начал рыскать глазами пошапкам, затылкам и воротникам, кипевшим вокруг него. Левой рукой онготовился что-то ухватить, а правой придерживал в кармане ручку браунинга.Печальное пение священников проплывало мимо, и рядом, надрываясь, голосилабаба в платке. Хватать было решительно некого, голос словно сквозь землюпровалился. Проплыл последний гроб, "Прапорщик Морской", пролетеликакие-то сани.
- "Вести"! - вдруг под самым ухом Турбина резнул сиплый альт.
Турбин вытащил из кармана скомканный лист и, не помня себя, два разаткнул им мальчишке в физиономию, приговаривая со скрипом зубовным:
- Вот тебе вести. Вот тебе. Вот тебе вести. Сволочь!
На этом припадок его бешенства и прошел. Мальчишка разронял газеты,поскользнулся и сел в сугроб. Лицо его мгновенно перекосилось фальшивымплачем, а глаза наполнились отнюдь не фальшивой, лютейшей ненавистью.
- Што это... что вы... за что мине? - загнусил он, стараясь зареветь ишаря по снегу. Чье-то лицо в удивлении выпятилось на Турбина, но боялосьчто-нибудь сказать. Чувствуя стыд и нелепую чепуху, Турбин вобрал голову вплечи и, круто свернув, мимо газового фонаря, мимо белого бока круглогогигантского здания музея, мимо каких-то развороченных ям с занесеннымипленкой снега кирпичами, выбежал на знакомый громадный плац - садАлександровской гимназии.
- "Вести"! "Ежедневная демократическая газета"! - донеслось с улицы.
Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плацродная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьмилет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классыбыли полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнегоучебного года, в8дел плац из окна. Восемь лет растил и учил кирпичныйпокой Турбина и младших - Карася и Мышлаевского.
И ровно восемь же лет назад в последний раз видел Турбин сад гимназии.Его сердце защемило почему-то от страха. Ему показалось вдруг, что чернаятуча заслонила небо, что налетел какой-то вихрь и смыл всю жизнь, какстрашный вал смывает пристань. О, восемь лет учения! Сколько в них былонелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько былорадостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум, Кай ЮлийЦезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этогокола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленыхпередниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди университет, значит, жизнь свободная, - понимаете ли вы, что значитуниверситет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.
И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные,до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак неможет вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличаетсяот Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, ивысадился Помпеи, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживался втечение двух тысяч лет...
Мало этого. За восемью годами гимназии, уже вне всяких бассейнов, трупыанатомического театра, белые палаты, стеклянное молчание операционных, азатем три года метания в седле, чужие раны, унижения и страдания, - о,проклятый бассейн войны... И вот высадился все там же, на этом плацу, втом же саду. И бежал по плацу достаточно больной и издерганный, сжималбраунинг в кармане, бежал черт знает куда и зачем. Вероятно, защищать тусамую жизнь - будущее, из-за которого мучился над бассейнами и темипроклятыми пешеходами, из которых один идет со станции "А", а другойнавстречу ему со станции "Б".
Черные окна являли полнейший и угрюмейший покой. С первого взглядастановилось понятно, что это покой мертвый. Странно, в центре города,среди развала, кипения и суеты, остался мертвый четырехъярусный корабль,некогда вынесший в открытое море десятки тысяч жизней. Похоже было, чтоникто уже его теперь не охранял, ни звука, ни движения не было в окнах ипод стенами, крытыми желтой николаевской краской. Снег девственным пластомлежал на крышах, шапкой сидел на кронах каштанов, снег устилал плац ровно,