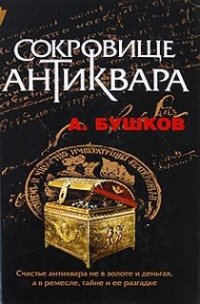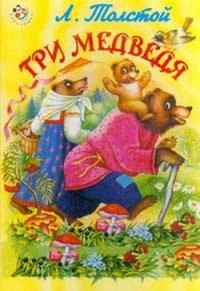Книга "Другие берега". Страница 1
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
Предлагаемая читателю автобиография обнимает период почтив сорок лет--с первых годов века по май 1940 года, когда авторпереселился из Европы в Соединенные Штаты. Ее цель-- описатьпрошлое с предельной точностью и отыскать в нем полнозначныеочертания, а именно: развитие и повторение тайных тем в явнойсудьбе. Я попытался дать Мнемозине не только волю, но и закон.
Основой и отчасти подлинником этой книги послужило ееамериканское издание, "Conclusive Evidence" ("Убедительноедоказательство" (англ.)). Совершенно владея смладенчества и английским и французским, я перешел бы для нуждсочинительства с русского на иностранный язык без труда, будья, скажем, Джозеф Конрад, который, до того, как начал писатьпо-английски, никакого следа в родной (польской) литературе неоставил, а на избранном языке (английском) искусно пользовалсяготовыми формулами. Когда, в 1940 году, я решил перейти наанглийский язык, беда моя заключалась в том, что перед тем, втечение пятнадцати с лишком лет, я писал по-русски и за этигоды наложил собственный отпечаток на свое орудие, на своегопосредника. Переходя на другой язык, я отказывался такимобразом не от языка Аввакума, Пушкина, Толстого--или Иванова,няни, русской публицистики-- словом, не от общего языка, а отиндивидуального, кровного наречия. Долголетняя привычкавыражаться по-своему не позволяла довольствоваться нановоизбранном языке трафаретами,-- и чудовищные трудностипредстоявшего перевоплощения, и ужас расставанья с живым,ручным существом ввергли меня сначала в состояние, о которомнет надобности распространяться; скажу только, что ни одинстоящий на определенном уровне писатель его не испытывал доменя.
Я вижу невыносимые недостатки в таких моих английскихсочинениях, как например "The Real Life of Sebastian Knight"("Истинная жизнь Себастьяна Найта" (англ.)); естькое-что удовлетворяющее меня в "Bend Sinister" ("Под знакомнезаконнорожденных" (англ.) ) и некоторых отдельныхрассказах, печатавшихся время от времени в журнале "The NewYorker". Книга "Conclusive Evidence" писалась долго(1946--1950), с особенно мучительным трудом, ибо память быланастроена на один лад -- музыкально недоговоренный русский,-- анавязывался ей другой лад, английский и обстоятельный. Вполучившейся книге некоторые мелкие части механизма былисомнительной прочности, но мне казалось, что целое работаетдовольно исправно -- покуда я не взялся за безумное делоперевода "Conclusive Evidence" на прежний, основной мой язык
Недостатки объявились такие, так отвратительно таращилась инаяфраза, так много было и пробелов и лишних пояснений, что точныйперевод на русский язык был бы карикатурой Мнемозины. Удержавобщий узор, я изменил и дополнил многое. Предлагаемая русскаякнига относится к английскому тексту, как прописные буквы ккурсиву, или как относится к стилизованному профилю в упорглядящее лицо: "Позвольте представиться,--сказал попутчик мойбез улыбки,--моя фамилия N.". Мы разговорились. Незаметнопролетела дорожная ночь. "Так-то, сударь",--закончил он совздохом. За окном вагона уже дымился ненастный день, мелькалипечальные перелески, белело небо над каким-то пригородом, там исям еще горели, или уже зажглись, окна в отдельных домах... Вотзвон п3теводной ноты
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенныхсуеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь -- только щельслабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницыв их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную намсвойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, вкоторой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердцав час. Я знавал, впрочем, чувствительного юношу, страдавшегохронофобией и в отношении к безграничному прошлому. Стомлением, прямо паническим, просматривая домашнегопроизводства фильм, снятый за месяц до его рождения, он виделсовершенно знакомый мир, ту же обстановку, тех же людей, носознавал, что его-то в этом мире нет вовсе, что никто егоотсутствия не замечает и по нем не горюет. Особенно навязчив истрашен был вид только что купленной детской коляски, стоявшейна крыльце с самодовольной косностью гроба; коляска была пуста,как будто "при обращении времени в мнимую величину минувшего",как удачно выразился мой молодой читатель, самые кости егоисчезли.
Юность, конечно, очень подвержена таким наваждениям. И тосказать: коли та или другая добротная догма не приходит вподмогу свободной мысли, есть нечто ребячливое в повышеннойвосприимчивости к обратной или передней вечности. В зрелом жевозрасте рядовой читатель так привыкает к непонятностиежедневной жизни, что относится с равнодушием к обеим чернымпустотам, между которыми ему улыбается мираж, принимаемый им заландшафт. Так давайте же ограничим воображение. Его дивными имучительными дарами могут наслаждаться только бессонные детиили какая-нибудь гениальная развалина. Дабы восторг жизни былчеловечески выносим, давайте (говорит читатель) навяжем емумеру.
Против всего этого я решительно восстаю. Я готов, передсвоей же земной природой, ходить, с грубой надписью под дождем,как обиженный приказчик. Сколько раз я чуть не вывихивалразума, стараясь высмотреть малейший луч личного средибезличной тьмы по оба предела жизни? Я готов был статьединоверцем последнего шамана, только бы не отказаться отвнутреннего убеждения, что себя я не вижу в вечности лишь из-заземного времени, глухой стеной окружающего жизнь. Я забиралсямыслью в серую от звезд даль -- но ладонь скользила все по тойже совершенно непроницаемой глади. Кажется, кроме самоубийства,я перепробовал все выходы. Я отказывался от своего лица, чтобыпроникнуть заурядным привидением в мир, существовавший до меня
Я мирился с унизительным соседством романисток, лепечущих оразных йогах и атлантидах. Я терпел даже отчеты омедиумистических переживаниях каких-то английских полковниковиндийской службы, довольно ясно помнящих свои прежниевоплощения под ивами Лхассы. В поисках ключей и разгадок ярылся в своих самых ранних снах -- и раз уж я заговорил о снах,прошу заметить, что безоговорочно отметаю фрейдовщину и всю сетемную средневековую подоплеку, с ее маниакальной погоней заполовой символикой, с ее угрюмыми эмбриончиками,подглядывающими из природных засад угрюмое родительское соитие.
В начале моих исследований прошлого я не совсем понимал,что безграничное на первый взгляд время есть на самом делекруглая крепость. Не умея пробиться в свою вечность, яобратился к изучению ее пограничной полосы--моего младенчества
Я вижу пробуждение самосознания, как череду вспышек суменьшающимися промежутками Вспышки сливаются в цветныепросветы, в географические формы. Я научился счету и словупочти одновременно, и открытие, что я--я, а мои родители-- они, было непосредственно связано с понятием оботношении их возраста к моему. Вот включаю этот ток -- и, судяпо густоте солнечного света, тотчас заливающего мою память, полапчатому его очерку, явно зависящему от переслоений иколебаний лопастных дубовых листьев, промеж которых он падаетна песок, полагаю, что мое открытие себя произошло в деревне,летом, когда, задав кое-какие вопросы, я сопоставил в уметочные ответы, полученные на них от отца и матери,-- междукоторыми я вдруг появляюсь на пестрой парковой тропе. Все этосоответствует теории онтогенического повторения пройденного
Филогенически же, в первом человеке осознание себя не могло несовпасть с зарождением чувства времени.
Итак, лишь только добытая формула моего возраста,свежезеленая тройка на золотом фоне, встретилась в солнечномтечении тропы с родительскими цифрами, тенистыми тридцать три идвадцать семь, я испытал живительную встряску. При этом второмкрещении, более действительном, чем первое (совершенное привоплях полуутопленного полувиктора,-- звонко, из-за двери, матьуспела поправить нерасторопного протоиерея КонстантинаВетвеницкого), я почувствовал себя погруженным в сияющую иподвижную среду, а именно в чистую стихию времени, которое яделил -- как делишь, плещась, яркую морскую воду -- с другимикупающимися в ней существами. Тогда-то я вдруг понял, чтодвадцатисемилетнее, в чем-то бело-розовом и мягком, создание,