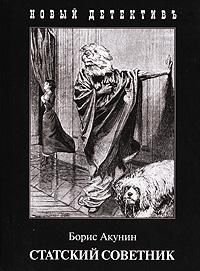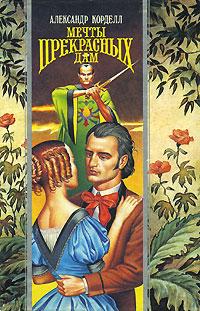Книга "Другие берега". Страница 6
некоторые тонкости, как например то, что сыроежки или тамрыжики, и вообще все низменные агарики с пластиночной бухтармойсовершенно игнорировались знатоками, которые брали толькоклассически прочно и округло построенные виды из рода Boletus,боровики, подберезовики, подосиновики. В дождливую погоду,особливо в августе, множество этих чудесных растеньиц вылезалов парковых дебрях, насыщая их тем сырым, сытным запахом -смесью моховины, прелых листьев и фиалкового перегноя,-- откоторого вздрагивают и раздуваются ноздри петербуржца. Но виные дни приходилось подолгу всматриваться и шарить, покуда несыщется семейка боровичков в тесных чепчиках или мрамористый"гусар", или болотная форма худосочного белесого березовика,
Под моросящим дождиком мать пускалась одна в долгий поход,запасаясь корзинкой -- вечно запачканной лиловым снутри отчьих-то черничных сборов. Часа через три можно было увидеть ссадовой площадки ее небольшую фигуру в плаще с капюшоном,приближавшуюся из тумана аллеи; бисерная морось назеленовато-бурой шерсти плаща образовывала вокруг нее подобиедымчатого ореола. Вот, выйдя из-под капающей и шуршащей сенипарка, она замечает меня, и немедленно лицо ее принимаетстранное, огорченное выражение, которое казалось бы должноозначать неудачу, но на самом деле лишь скрывает ревнивосдержанное упоение, грибное счастье. Дойдя до меня, онаиспускает вздох преувеличенной усталости, и рука и плечо вдругобвисают, чуть ли не до земли опуская корзинку, дабыподчеркнуть ее тяжесть, ее сказочную полноту.
Около белой, склизкой от сырости, садовой скамейки соспинкой она выкладывает свои грибы концентрическими кругами накруглый железный стол со сточной дырой посредине. Она считает исортирует их. Старые, с рыхлым исподом, выбрасываются; молодыми крепким уделяется всяческая забота. Через минуту их унесетслуга в неведомое и неинтересное ей место, но сейчас можностоять и тихо любоваться ими. Выпадая в червонную бездну изненастных туч, перед самым заходом, солнце бывало бросалокрасочный луч в сад, и лоснились на столе грибы: к иной краснойили янтарно-коричневой шляпке пристала травинка; к инойподштрихованной, изогнутой ножке прилип родимый мох; икрохотная гусеница геометриды, идя по краю стола, как бы двумяпальцами детской руки все мерила что-то и изредка вытягиваласьвверх, ища никому неизвестный куст, с которого ее сбили
4
Все, что относилось к хозяйству, занимало мою мать стольже мало, как если бы она жила в гостинице. Не былохозяйственной жилки и у отца. Правда, он заказывал завтраки иобеды. Этот ритуал совершался за столом, после сладкого
Буфетчик приносил черный альбомчик. С легким вздохом отецраскрывал его и, поразмысливши, своим изящным, плавным почеркомвписывал меню на завтра. У него была привычка даватьхимическому карандашу, или перу-самотеку, быстро-быстротрепетать на воздухе, над самой бумагой, покуда он обдумывалследующую зыбельку слов. На его вопросительные наименованияблюд мать отвечала неопределенными кивками или морщилась
Официально в экономках числилась Елена Борисовна, бывшая няняматери, древняя, очень низенького роста старушка, похожая наунылую чер5паху, большеногая, малоголовая, с совершеннопотухшим, мутно-карим взглядом и холодной, как забытое вкладовой яблочко, кожей. Про Бову она мне что-то нерассказывала, но и не пила, как пивала Арина Родионовна(кстати, взятая к Олиньке Пушкиной с Суйды, неподалеку от нас)
Она была на семьдесят лет старше меня, от нее шел легкий, нонестерпимый запах -- смесь кофе и тлена -- и за последние годыв ней появилась патологическая скупость, по мере развитиякоторой был потихоньку от нее введен другой домашний порядок,учрежденный в лакейской. Ее сердце не выдержало бы, узнай она,что власть ее болтается в пространстве, с ее же ключничьегокольца, и мать старалась лаской отогнать подозрение,заплывавшее в слабеющий ум старушки. Та правила безраздельнокаким-то своим, далеким, затхлым, маленьким царством -- вполнеотвлеченным, конечно, иначе бы мы умерли с голоду; вижу, какона терпеливо топает туда по длинным желтым коридорам, поднасмешливым взглядом слуг, унося в тайную кладовую сломанныйпетн-бер, найденный ею где-то на тарелке. Между тем, приотсутствии всякого надзора над штатом в полсотни с лишкомчеловек, и в усадьбе и в петербургском доме шла веселаяворовская свистопляска. По словам пронырливых старыхродственниц, заправилами был повар, Николай Андреич, да старыйсадовник, Егор,--оба необыкновенно положительные на вид люди, вочках, с седеющими висками -- словом, прекрасно загримированныепод преданных слуг. Доносам старых родственниц никто не верил,но увы, они говорили правду. Николай Андреич был закупочнымгением, и, как выяснилось однажды, довольно известным впетербургских спиритических кругах медиумом; Егор (до сих порслышу его черноземно-шпинатный бас, когда он на огороде пыталсяотвести мое прожорливое внимание от ананасной земляники кпростой клубнике) торговал под шумок господскими цветами иягодами так искусно, что нажил новенький дом на Сиверской: мойдядя Рукавишников как-то ездил посмотреть и вернулся судивленным выражением. При ровном наплыве чудовищных инеобъяснимых счетов, мой отец испытывал, в качестве юриста игосударственного человека, особую досаду от неумения разрешитьэкономические нелады у себя в доме. Но всякий раз, какобнаруживалось явное злоупотребление, что-нибудь непременномешало расправе. Когда здравый смысл велел прогнать жуликакамердинера, тут-то и оказывалось, что его сын, черноглазыймальчик моих лет, лежит при смерти -- и все заслонялосьнеобходимостью консилиума из лучших докторов столицы
Отвлекаемый то тем, то другим, мой отец оставил в конце концовхозяйство в состоянии неустойчивого равновесия и даже научилсясмотреть на это с юмористической точки зрения, между тем какмать радовалась, что этим потворством спасен от гибелисумасшедший мир старой ее няньки, уносящей в свою вечность потемнеющим коридорам, уже даже не бисквит, а горсть сухихкрошек. Мать хорошо понимала боль разбитой иллюзии. Малейшееразочарование принимало у нее размеры роковой беды. Как-то вСочельник, месяца за три до рождения ее четвертого ребенка, онаоставалась в постели из-за легкого недомогания. По английскомуобычаю, гувернантка привязывала к нашим кроваткам врождественскую ночь, пока мы спали, по чулку, набитомуподарками, а будила нас по случаю праздника сама мать и, делярадость не только с детьми, но и с памятью собственногодетства, наслаждалась нашими восторгами при шуршащемразвертывании всяких волшебных мелочей от Пето. В этот раз,однако, она взяла с нас слово, что в девять утра непочатыечулки мы принесем разбирать в ее спальню. Мне шел седьмой год,брату шестой, и, рано проснувшись, я с ним быстро посовещался,заключил безумный союз,-- и мы оба бросились к чулкам,повешенным на изножье. Руки сквозь натянутый уголками ибугорками шелк нащупали сегменты содержимого, похрустывавшегоафишной бумагой. Все это мы вытащили, развязали, развернули,осмотрели при смугло-нежном свете, проникавшем сквозь складкиштор,-- и, снова запаковав, засунули обратно в чулки, скоторыми в должный срок мы и явились к матери. Сидя у нее наосвещенной постели, ничем не защищенные от ее довольных глаз,мы попытались дать требуемое публикой представление. Но мы такперемяли шелковистую розовую бумагу, так уродливо перевязалиленточки и так по-любительски изображали удивление и восторг(как сейчас вижу брата, закатывающего глаза и восклицающего синтонацией нашей француженки "Ah, que c'est beau!" ("Ах, какаякрасота!" (франц.) )) , что, понаблюдавши нас с минуту,бедный зритель разразился рыданиями, Прошло десятилетие. Впервую мировую войну (Пуанкаре в крагах, слякоть, здравияжелаем, бедняжка-наследник в черкеске, крупные, ужасно одетыеего сестры в больших застенчивых шляпах, с тысячей своихчастных шуточек) моя мать очень добросовестно, но довольнонеумело, соорудила собственный лазарет, по примеру другихпетербургских дам,-- и вот помню ее, в ненавистной ей формесестры, рыдающей теми же детскими слезами над фальшью модногомилосердия, над мучительной, каменной, совершенно непроницаемойкротостью искалеченных мужиков. И еще позже -- о, гораздо позже-- перебирая в изгнании прошлое, она часто винила себя(по-моему -- несправедливо), что менее была чутка к обилиючеловеческого горя на земле, чем к бремени чувств, спихиваемомучеловеком на все безвинно-безответное, как например старыеаллеи, старые лошади, старые псы.
Мои тетки критиковали ее пристрастие к коричневым таксам
В фотографических альбомах, подробно иллюстрирующих ее молодыегоды, среди пикников, крокетов, это не вышло, спортсменок врукавах буфами и канотье, старых слуг с руками по швам, ее в