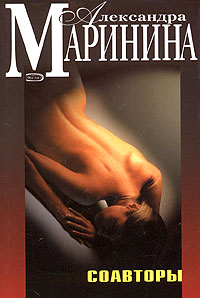Книга "Лолита". Страница 75
31
На этой одинокой остановке между Коулмонтом и Рамздэлем(между невинной Долли Скиллер и жовиальным дядей Айвором) япересмотрел все обстоятельства моего дела. С предельнойпростотой и ясностью я видел теперь и себя и свою любовь. Посравнению с этим прежние обзоры такого рода казались вне фокуса
Года два тому назад, в минуту метафизического любопытства, яобратился к умному, говорящему по-французски духовнику, в рукикоторого я передал серое безверие протестанта для старомодногопапистского курса лечения, надеясь вывести из чувства грехасуществование Высшего Судии. В те морозные утра, в кружевном отинея Квебеке, добрый аббат работал надо мной с утонченнейшейнежностью и пониманием. Я бесконечно благодарен и ему, и великойорганизации, которую он представлял. Увы, мне не удалосьвознестись над тем простым человеческим фактом, что, какое быдуховное утешение я ни снискал, какая бы литофаническая вечностьни была мне уготована, ничто не могло бы заставить мою Лолитузабыть все то дикое, грязное, к чему мое вожделение принудилоее. Поскольку не доказано мне (мне, каков я есть сейчас, снынешним моим сердцем, и отпущенной бородой, и начавшимсяфизическим разложением), что поведение маньяка, лишившегодетства североамериканскую малолетнюю девочку, Долорес Гейз, неимеет ни цены ни веса в разрезе вечности - поскольку мне недоказано это (а если можно это доказать, то жизнь - пошлыйфарс), я ничего другого не нахожу для смягчения своих страданий,как унылый и очень местный паллиатив словесного искусства
Закончу эту главку цитатой из старого и едва ли существовавшегопоэта:
Так пошлиною нравственности ты
Обложено в нас, чувство красоты!
32
Помню день, во время нашей первой поездки - нашего первогокруга рая, - когда для того, чтобы свободно упиваться своимифантасмагориями, я принял важное решение: не обращать вниманияна то (а было это так явно!), что я для нее не возлюбленный, немужчина с бесконечным шармом, не близкий приятель, даже вообщене человек, а всего только пара глаз да толстый фаллос длиною вфут - причем привожу только удобоприводимое. Помню день, когда,взяв обратно (чисто-практическое) обещание, из чистого расчетаданное ей накануне (насчет чего-то, чего моей смешной девочкестрастно хотелось, посетить, например, новый роликовый каток сособенной пластиковой поверхностью или пойти без меня на дневнуюпрограмму в кино), я мельком заметил из ванной, благодаряслучайному сочетанию двух зеркал и приотворенной двери,выражение у нее на лице - трудноописуемое выражениебеспомощности столь полной, что оно как бы уже переходило вбезмятежность слабоумия - именно потому, что чувствонесправедливости и непреодолимости дошло до предела, а меж темвсякий предел предполагает существование чего-то за ним - отсюдаи нейтральность освещения; и, принимая во внимание, что этиприподнятые брови и приоткрытые губы принадлежали ребенку, выеще лучше оцените, какие бездны расчетливой похоти, какоевторично отразившееся отчаяние удержали меня от того, чтобыпасть к ее дорогим ногам и изойти человеческими слезами, - ипожертвовать своей ревностью ради того неведомого мнеудовольствия, которо5 Лолита надеялась извлечь из общения снечистоплотными и опасными детьми в наружном мире, казавшемся ейнастоящим.
Есть у меня и другие полузадушенные воспоминания, которыеныне встают недоразвитыми монстрами и терзают меня. Однажды, набердслейской улице с закатом в пролете, она обратилась кмаленькой Еве Розен (я сопровождал обеих нимфеток на концерт и,подвигаясь за ними, в толпе у кассы держался так близко, чтотыкался в них), - и вот слышу, как моя Лолита, в ответ на словаЕвы, что "лучше смерть, чем Мильтон Пинский (знакомый гимназист)и его рассуждения о музыке", говорит необыкновенно спокойно исерьезно: "Знаешь, ужасно в смерти то, что человек совсемпредоставлен самому себе"; и меня тогда поразило, пока я, какавтомат, передвигал ватные ноги, что я ровно ничего не знаю опроисходившей у любимой моеи в головке и что, может быть,где-то, за невыносимыми подростковыми штампами, в ней есть ицветущий сад, и сумерки, и ворота дворца, - дымчатаяобворожительная область, доступ к которой запрещен мне,оскверняющему жалкой спазмой свои отрепья; ибо я часто замечал,что, живя, как мы с ней жили, в обособленном мире абсолютногозла, мы испытывали странное стеснение, когда я пыталсязаговорить с ней о чем-нибудь отвлеченном (о чем могли быговорить она и старший друг, она и родитель, она и нормальныйвозлюбленный, я и Аннабелла, Лолита и сублимированый,вылизанный, анализированный, обожествленный Гарольд Гейз), обискусстве, о поэзии, о точечках на форели Гопкинса или бритойголове Бодлера, о Боге и Шекспире, о любом настоящем предмете
Не тут-то было! Она одевала свою уязвимость в броню дешевойнаглости и нарочитой скуки, между тем как я, пользуясь для своихнесчастных ученых комментариев искусственным тоном, от которогоу меня самого ныли последние зубы, вызывал у своей аудиториитакие взрывы грубости, ч-,о нельзя было продолжать, о, моябедная, замученная девочка.
Я любил тебя. Я был пятиногим чудовищем, но я любил тебя
Я был жесток, низок, все что угодно, mais je t'aimais, jet'aimais! И бывали минуты, когда я знал, что именно тычувствуешь, и неимоверно страдал от этого, детеныш мой,Лолиточка моя, храбрая Долли Скиллер...
Вспоминаю некоторые такие минуты - назовем их айсбергами враю, - когда, насытившись ею, ослабев от баснословных, безумныхтрудов, безвольно лежа под лазоревой полосой, идущей поперектела, я, бывало, заключал ее в свои объятья с приглушеннымстоном человеческой (наконец!) нежности.
Ее кожа лоснилась в неоновом луче, проникавшем измотельного двора сквозь жалюзи, ее черные, как сажа, ресницыслиплись; ее серые, без улыбки, глаза казались еще безучастнее,чем обычно, - она до смешного напоминала маленькую пациентку, несовсем еще вышедшую из тумана наркоза после очень серьезнойоперации; и тут нежность моя переходила в стыд и ужас, и яутешал и баюкал сиротливую, легонькую Лолиту, лежавшую намраморной моей груди, и, урча, зарывал лицо в ее теплые кудри, ипоглаживал ее наугад, и, как Лир, просил у нее благословения, ина самой вершине этой страдальческой бескорыстной нежности (вмиг, когда моя душа как бы повисала над ее наготой и готова былараскаяться), внезапно, с мерзостной иронией, желание нарасталоснова... "Ах, нет!", говорила Лолита, подняв, со вздохом, глазак небу, и в следующую минуту и нежность и лазоревый луч - всераспадалось.
Современные наши понятия об отношениях между отцом идочерью сильно испакощены схоластическим вздором истандартизированными символами психоаналитической лавочки;надеюсь, однако, что нижеследующие строки обращаются кбеспристрастным читателям. Как-то раз, когда отец одной из ееподруг (толстенькой Авис Чапман) громким гудком подал с улицысигнал, что он приехал забрать свою дурнушку, я почувствовалсебя обязанным пригласить его в гостиную; он присел на минутку,и, пока мы беседовали, Авис ластилась к нему и в конце концовгрузно примостилась у него на коленях. Не помню, между прочим,отметил ли я где-нибудь, что у Лолиты была для чужих совершенноочаровательная улыбка, - мохнатое прищуривание глаз и милое,мечтательное сияние всех черт лица, - улыбка, которая ничего,конечно, не значила, но которая была так прекрасна, таксамобытно нежна, что трудно ее объяснить атавизмом, магическойгеной, непроизвольно озаряющей лицо в знак древнегоприветственного обряда (гостеприимной проституции, скажетчитатель погрубее). Она стояла поодаль, когда мистер Чапман сели заговорил, вертя шляпу в руках, а затем - ах, смотрите, какглупо с моей стороны, я опустил главнейшую особенностьзнаменитой Лолитовой улыбки, а именно: ее сладкая, как нектар,переливающаяся ямочками игра никогда не бывала направлена нагостя, а держалась, так сказать, собственной далекой цветущейпустоты или блуждала с близорукой вкрадчивостью по случайнымпредметам - и было так сейчас. В ту минуту, как толстая Ависприблизилась и стала мешать своему папе вертеть шляпу, Лолитатихо сияла, разглядывая и потрагивая фруктовый нож, лежавший накраю стола, к которому она прислонялась далеко, далеко от меня
Авис теперь ухватилась за отцовскую шею и ухо, а он, привычнойрукой, полуобнял свое неуклюжее и крупное чадо, и вдруг язаметил, как улыбка Лолиты стала гаснуть, превратилась воцепеневшую тень улыбки, и фруктовый нож соскользнул со стола исеребряным черенком случайно ударил ее в щиколку, да так больно,что она охнула, согнулась вдвое и тотчас потом, прыгая на одной