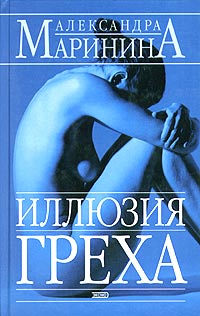Книга "Под знаком незаконнорожденных". Страница 41
тихо кровоточит, пронзенная и разорванная похотью 40-ка солдат.
Фабула романа зарождается в дождевой луже, яркой, словно прозрачныйбульон. Круг наблюдает за ней из окна больницы, в которой умирает его жена
Продолговатая лужица, похожая формой на клетку, готовую разделиться,субтематически вновь и вновь возникает в романе, появляясь в видечернильного пятна в четвертой главе, кляксы в главе пятой, пролитого молокав главе одиннадцатой, дрожащей, напоминающей обликом инфузорию, ресничатоймысли в главе двенадцатой, следа от ноги фосфоресцирующего островитянина вглаве восемнадцатой, и отпечатка, оставляемого живущим в тонкой тканипространства - в заключительном абзаце. Лужа, снова и снова вспыхивающаятаким образом в сознании Круга, остается связанной с образом его жены нетолько потому, что он разглядывал вставленный в эту лужу закат, стоя усмертного ложа Ольги, но также и потому, что эта лужица невнятно намекаетему о моей с ним связи: она - прореха в его мире, ведущая в мир иной, полныйнежности, красок и красоты.
И сопутствующий образ, еще красноречивее говорящий об Ольге, этовидение, в котором она совлекает с себя - себя саму, свои драгоценности,ожерелье и тиару земного существования, сидя перед сверкающим зеркалом. Этокартина, возникающая шестикратно в продолжение сна, среди струистых,преломляемых сновидением воспоминаний отрочества Круга (пятая глава).
В мире слов парономазия есть род словесной чумы, прилипчивая болезнь;не удивительно, что слова чудовищно и бездарно искажаются в Падукграде, гдекаждый представляет собой анаграмму кого-то еще. Книга кишит стилистическимиискажениями каламбурами, скрещенными с анаграммами (во второй главе русскаяокружность, "круг", преобразуется в тевтонский огурец, "gurk", с добавочнойаллюзией на Круга, обращающего свое хождение по мосту); подмигивающиминеологизмами ("аморандола" местная гитара); пародиями на повествовательныеклише ("до ушей которого донеслись последние слова" и "видимо, бывшийглавным у этих людей", вторая глава); спунеризмами ("наука" и "ни звука",играющие в чехарду в семнадцатой главе); и, конечно, гибридизацией языков.
Язык страны, на котором говорят в Падукграде и Омибоге, равно как и вдолине Кура, в Сакрских горах и в окрестностях озера Маллр, - этодворняжичья помесь славянских языков с германскими, значительно отягощеннаятекущей в ней наследственной струей древнего куранианского (особенноощутимой в выражениях горя); однако разговорные русский и немецкий так жеиспользуются представителями всех слоев населения - от неотесанныхсолдат-эквилистов до несомненных интеллигентов. Эмбер, к примеру, в седьмойглаве предлагает своему другу образчик первых трех строк монолога Гамлета(акт III, сцена I), переведенных на просторечие (с псведоученымистолкованием первой фразы, связующим ее с замышляемым убийством Клавдия:"быть или не быть убийству?"). Он дополняет его русской версией частирассказа Королевы из акта IV, сцена VII (также не без встроенной схолии), ипревосходным русским переводом прозаического куска из акта III, сцена II,начинающегося словами: "Would not this, Sir, and a forest of feathers..."
Проблемы перевода, плавного перехода от одно3о языка к другому,семантической прозрачности податливых слоев ускользающего илизавуалированного смысла столь же характерны для Синистербада, сколь валютныепроблемы для других, более привычных тираний.
В этом обезумевшем зеркале террора и искусства псевдоцитата,сооруженная из темных шекспирианизмов (третья глава), каким-то образомпорождает, несмотря на отсутствие у нее буквального смысла, размытый,уменьшенный образ акробатического представления, так славно венчающегобравурный финал следующей главы. Ямбические случайности, набранные наугад втексте "Моби Дика", являются в обличьи "знаменитой американской поэмы"(двенадцатая глава). Если "астроном" и его "комета" из пустой официальнойречи (четвертая глава) поначалу воспринимаются вдовцом как "гастроном" и его"котлета", это связано с прозвучавшим перед тем случайным упоминанием омуже, потерявшем жену, затуманивающим и искажающим следующую фразу. КогдаЭмбер вспоминает в третьей главе четыре романа-бестселлера, сметливыйпассажир, обладатель сезонного билета, сразу же замечает, что три названияиз четырех грубо слагаются в туалетный призыв не пользоваться Сливом, Когдапоезд проходит По городам и деревням, тогда как четвертое глухо напоминает оскверном романе Верфеля "Песня Бернадетты" - наполовину облатка причастия,наполовину леденец. Подобным же образом, в начале шестой главы, гдеупоминаются кой-какие иные популярные романы тех дней, легкий сдвиг вспектре значений заменяет "Унесенных ветром" (утянутых из "Цинары" Доусона)"Отброшенными розами" (краденными из того же стихотворения), а слияние двухдешевых романов (Ремарка и Шолохова) порождает изящное "На Тихом Дону безперемен".
Стефан Малларме оставил три или четыре бессмертных багателя и среди них"L'Aprиs-Midi d'un Faune" (первый набросок датируется 1865-м годом). Кругапреследует одно место из этой чувственной эклоги, где фавн порицает нимфу,вырвавшуюся из его объятий: "sans pitiй du sanglot dont j'йtais encore ivre"("отвергнув спазм, которым я был пьян"). Осколки этой строки, словно эхо,перекликаются по книге, неожиданно возникая, например, в горестном вопле"malarma ne donje" д-ра Азуреуса (четвертая глава) и в "donje te zankoriv"извиняющегося Круга, когда он в той же главе прерывает поцелуйуниверситетского студента и его маленькой Кармен (предвещающей Мариэтту)
Смерть это тоже безжалостное разъятие; тяжкая чувственность вдовца ищетразрешения в Мариэтте, но едва успевает он алчно стиснуть ляжки случайнойнимфы, которой он готов насладиться, как оглушительный стук в дверьпрерывает пульсирующий ритм навсегда.
Могут спросить, достойно ли автора изобретать и рассовывать по книгеэти тонкие вешки, самая природа которых требует, чтобы они не были слишкомвидны. Кто удосужится заметить, что потасканный старый погромщик ПанкратЦикутин (тринадцатая глава) - это сократова отрава, что "the child is bold"в аллюзии на эмиграцию (восемнадцатая глава) - это стандартное предложение,посредством которого проверяют уменье читать у будущих американских граждан;что Линда все же не прикарманила фарфорового совенка (начало десятой главы);что мальчишки во дворе (седьмая глава) написаны Солом Штейнбергом; что"другой русалочий отче" - это Джеймс Джойс, автор "Winnipeg Lake" (ibid.); ичто последнее слово книги вовсе не является опечаткой (как предположил одиниз чтецов)? Большинство вообще с удовольствием ничего не заметит;доброжелатели приедут на мой пикничок с собственными символами, всобственных домах на колесах и с собственными карманными радиоприемниками;иронисты укажут на роковую тщету моих пояснений в этом предисловии ипосоветуют впредь использовать сноски (определенного сорта умам сноскикажутся страшно смешными). В конечный зачет, однако, идет только личноеудовлетворение автора. Я редко перечитываю мои книги, да и то лишь сутилитарными целями проверки перевода или нового издания; но когда я вновьпрохожу через них, наибольшую радость мне доставляет попутное щебетание тойили этой скрытой темы.
Поэтому во втором абзаце пятой главы появляется первый намек накого-то, кто "в курсе всех этих дел", - на таинственного самозванца,использующего сон Круга для передачи собственного причудливого тайнописногосообщения. Этот самозванец не венский шарлатан (на все мои книги следовалобы поставить штампик: "Фрейдистам вход запрещен"), но антропоморфноебожество, изображаемое мною. В последней главе книги это божество испытываетукол состраданья к своему творению и спешит вмешаться. Круг во внезапнойлунной вспышке помешательства осознает, что он в надежных руках: ничтоземное не имеет реального смысла, бояться нечего, и смерть - это всего лишьвопрос стиля, простой литературный прием, разрешение музыкальной темы. Ипока светлая душа Ольги, уже обретшая свой символ в одной из прежних глав (вдевятой), бьется в мокром мраке о яркое окно моей комнаты, утешенный Кругвозвращается в лоно его создателя
Владимир Набоков
9 сентября 1963 года
Монтре