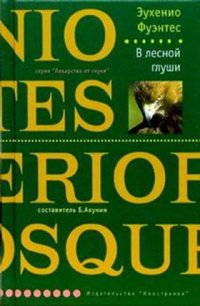Книга "Белая гвардия". Страница 53
твердыми шагами и молча прошла через столовую, где в совершенном молчаниисидели Карась, Мышлаевский и Лариосик. Ни один из них не шевельнулся приее проходе, боясь ее лица. Елена закрыла дверь к себе в комнату, а тяжелаяпортьера тотчас улеглась неподвижно.
Мышлаевский шевельнулся.
- Вот, - сиплым шепотом промолвил он, - все хорошо сделал командир, аАлешку-то неудачно пристроил...
Карась и Лариосик ничего к этому не добавили. Лариосик заморгалглазами, и лиловатые тени разлеглись у него на щеках.
- Э... черт, - добавил еще Мышлаевский, встал и, покачиваясь,подобрался к двери, потом остановился в нерешительности, повернулся,подмигнул на дверь Елены. - Слушайте, ребята, вы посматривайте... А то...
Он потоптался и вышел в книжную, там его шаги замерли. Через некотороевремя донесся его голос и еще какие-то странные ноющие звуки из Николкинойкомнаты.
- Плачет, Никол, - отчаянным голосом прошептал Лариосик, вздохнул, нацыпочках подошел к Елениной двери, наклонился к замочной скважине, ноничего не разглядел. Он беспомощно оглянулся Dа Карася, стал делать емузнаки, беззвучно спрашивать. Карась подошел к двери, помялся, но потомстукнул все-таки тихонько несколько раз ногтем в дверь и негромко сказал:
- Елена Васильевна, а Елена Васильевна...
- Ах, не бойтесь вы, - донесся глуховато Еленин голос из-за двери, - невходите.
Карась отпрянул, и Лариосик тоже. Они оба вернулись на свои места - настулья под печкой Саардама - и затихли. - Делать Турбиным и тем, кто сТурбиными был тесно и кровно связан, в комнате Алексея было нечего. Там итак стало тесно от трех мужчин. Это был тот золотоглазый медведь, другой,молодой, бритый и стройный, больше похожий на гвардейца, чем на врача, и,наконец, третий, седой профессор. Его искусство открыло ему и турбинскойсемье нерадостные вести, сразу, как только он появился шестнадцатогодекабря. Он все понял и тогда же сказал, что у Турбина тиф. И сразу как-тосквозная рана у подмышки левой руки отошла на второй план. Он же час всегоназад вышел с Еленой в гостиную и там, на ее упорный вопрос, вопрос нетолько с языка, но и из сухих глаз и потрескавшихся губ и развитых прядей,сказал, что надежды мало, и добавил, глядя в Еленины глаза глазами очень,очень опытного и всех поэтому жалеющего человека, - "очень мало". Всемхорошо известно и Елене тоже, что это означает, что надежды вовсе никакойнет и, значит, Турбин умирает. После этого Елена прошла в спальню к братуи долго стояла, глядя ему в лицо, и тут отлично и сама поняла, что,значит, нет надежды. Не обладая искусством седого и доброго старика, можнобыло знать, что умирает доктор Алексей Турбин.
Он лежал, источая еще жар, но жар уже зыбкий и непрочный, которыйвот-вот упадет. И лицо его уже начало пропускать какие-то странныевосковые оттенки, и нос его изменился, утончился, и какая-то чертабезнадежности вырисовывалась именно у горбинки носа, особенно яснопроступившей. Еленины ноги похолодели, и стало ей туманно-тоскливо вгнойном камфарном, сытном воздухе спальни. Но это быстро прошло.
Что-то в груди у Турбина заложило, как камнем, и дышал он с присвистом,через оскаленные зубы притягивая липкую, не влезающую в грудь струювоздуха. Давно уже не было у него сознания, и он не видел и не понималтого, что происходило вокруг него. Елена постояла, посмотрела. Профессортронул ее за руку и шепнул:
- Вы идите, Елена Васильевна, мы сами все будем делать.
Елена повиновалась и сейчас же вышла. Но профессор ничего не сталбольше делать.
Он снял халат, вытер влажными ватными шарами руки и еще раз посмотрел влицо Турбину. Синеватая тень сгущалась у складок губ и носа.
- Безнадежен, - очень тихо сказал на ухо бритому профессор, - вы,доктор Бродович, оставайтесь возле него.
- Камфару? - спросил Бродович шепотом.
- Да, да, да.
- По шприцу?
- Нет, - глянул в окно, подумал, - сразу по три грамма. И чаще. - Онподумал, добавил: - Вы мне протелефонируйте в случае несчастного исхода, такие слова профессор шептал очень осторожно, чтобы Турбин даже сквозьзавесу бреда и тумана не воспринял их, - в клинику. Если же этого небудет, я приеду сейчас же после лекции.
Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у нихдвадцать четвертого декабря в сумерки, а вечером дробящимися, теплымиогнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварнаяогнестрельная рана, хрипящий тиф все сбили и спутали, ускорили жизнь ипоявление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла ктумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек втяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе.Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом богоматерипревратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненнаянабок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский,беззвучный день, в углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер,Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Онасдвинула край ковра, освободила себе площадь глянцевитого паркета и,молча, положила первый земной поклон.
В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Онипобывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказалсобеседникам:
- Помирает... - набрал воздуху.
- Вот что, - заговорил Мышлаевский, - не позвать ли священника? А,Никол?.. Что ж ему так-то, без покаяния...
- Лене нужно сказать, - испуганно ответил Николка, - как же без нее. Иеще с ней что-нибудь сделается...
- А что доктор говорит? - спросил Карась.
- Да что тут говорить. Говорить более нечего, - просипел Мышлаевский.
Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледныйотуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул впереднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно,священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной всеравно без сознания и ничему это не повредит.
- Глухую исповедь...
Шептались, шептались, но не решились пока звать, а к Елене стучали, оначерез дверь глухо ответила: "Уйдите пока... я выйду..."
И они ушли.
Елена с колен исподлобья смотрела на зубчатый венец над почерневшимликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом:
- Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год икончаешь семью. За что?.. Мать взяла у нас, мужа у меня нет и не будет,это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшегоотнимаешь. За что?.. Как мы будем вдвоем с Николом?.. Посмотри, чтоделается кругом, ты посмотри... Мать-заступница, неужто ж не сжалишься?..Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?
Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и,вновь простирая руки, стала просить:
- На тебя одна надежда, пречистая дева. На тебя. Умели сына своего,умоли господа бога, чтоб послал чудо...
Шепот Елены стал страстным, она сбивалась в словах, но речь ее быланепрерывна, шла потоком. Она все чаще припадала к полу, отмахивалаголовой, чтоб сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. Деньисчез в квадратах окон, исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущийгавот в три часа дня, и совершенно неслышным пришел тот, к кому череззаступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом уразвороченной гробницы, совершенно воскресший, и благостный, и босой.Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнилисьсветом, переполнились сухим бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижаласьк полу, потом, всей душой вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуяуже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное ввенец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова.Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами, день темнел страшнобыстро, и еще раз возникло видение - стеклянный свет небесного купола,какие-то невиданные, красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья,черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор.
- Мать-заступница, - бормотала в огне Елена, - упроси его. Вон он. Чтоже тебе стоит. Пожалей нас. Пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может,что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умоляю за грехи. Пусть Сергей невозвращается... Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай... Все мы вкрови повинны, но ты не карай. Не карай. Вон он, вон он...
Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно, длинно ксамым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике,окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные,что страх и пьяная радость разорвали ей сердце, она сникла к полу и большене поднималась.
По всей квартире сухим ветром пронеслась тревога, на цыпочках, черезстоловую пробежал кто-то. Еще кто-то поцарапался в дверь, возник шепот:"Елена... Елена... Елена..." Елена, вытирая тылом ладони холодныйскользкий лоб, отбрасывая прядь, поднялась, глядя перед собой слепо, какдикарка, не глядя больше в сияющий угол, с совершенно стальным сердцемпрошла к двери. Та, не дождавшись разрешения, распахнулась сама собой, иНикол предстал в обрамлении портьеры. Николкины глаза выпятились на Еленув ужасе, ему не хватало воздуху.