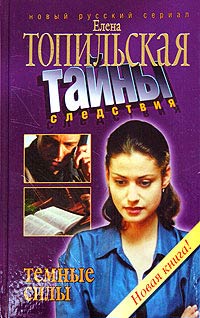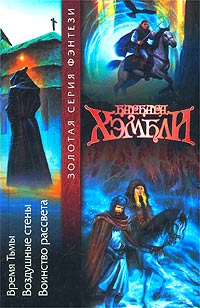Книга "Суходол". Страница 10
потом всю жизнь свою, до гробовой доски, поминала его за упокой. Но барышня была ей уже ближе всех. И барышня все больше заражала ее своимистрахами, ожиданиями бед - и тем, что держала она в тайне.
Лето же было знойное, пыльное, ветреное, с каждодневными грозами. Понароду бродили темные, тревожные слухи - о какой-то новой войне, о каких-то бунтах и пожарах. Одни говорили, что вот-вот отойдут все мужикина волю, другие, что, напротив, будут с осени забривать в солдаты всехмужиков поголовно. И, как водится, появились в несметном количестве бродяги, дурачки, монахи. И барышня чуть не в драку лезла с барыней из-заних, оделяла их хлебом, яйцами. Приходил Дроня, длинный, рыжий, не в меру оборванный. Был он просто пьяница, но играл блаженного. Он так задумчиво шел по двору прямо к дому, что стукался головой в стену и с радостным лицом отскакивал.
- Птушечки мои! - фальцетом вскрикивал он, подпрыгивая, изламывая всетело и правую руку, делая из нее как бы щиток от солнца. - Полетели, полетели по поднебесью мои птушечки!
И Наталья, подражая бабам, смотрела на него так, как и полагаетсясмотреть на божьих людей: тупо и жалостно. А барышня кидалась к окну икричала со слезами, жалким голосом:
- Угодниче божий Дроние, моли Бога за мя, грешную!
И при этом крике у Наташки глаза останавливались от страшных предположений.
Ходил из села Кличина Тимоша Кличинский: маленький, женоподобно-жирный, с большими грудями, с лицом косого младенца, одуревшего и задыхающегося от полноты, желтоволосый, в белой коленкоровой рубахе и коротеньких коленкоровых порточках. Торопливо, мелко и с носка ступал он маленькими налитыми ножками, приближаясь к крыльцу, и узенькие глазки егосмотрели так, точно из воды выскочил он или спасся от неминуемой гибели.
- Бяда! - бормотал он, задыхаясь. - Бяда...
Его успокаивали, кормили, ждали от него чего-то. Но он молчал, сопели жадно чавкал. А начавкавшись, опять вскидывал мешок за спину и тревожно искал свою длинную палку.
- Когда ж еще придешь, Тимоша? - кричала ему барышня.
И он отзывался тоже криком, нелепо высоким альтом, зачем-то коверкаяотчество барышни:
- О Святой, Лукьяновна!
И жалостно вопила вослед ему барышня:
- Угодниче божий! Моли Бога за мя, грешную, Марию Египетскую!
Каждый день приходили отовсюду вести о бедах - о грозах и пожарах. Ивсе возрастал в Суходоле древний страх огня. Чуть только начинало меркнуть песчано-желтое море зреющих хлебов под заходящей из-за усадьбы тучей, чуть только взвивался первый вихрь по выгону и тяжело прокатывалсяотдаленный гром, кидались бабы выносить на порог темные дощечки икон,готовить горшки молока, которым, как известно, скорей всего усмиряетсяогонь. А в усадьбе летели в крапиву ножницы, вынималось страшное заветное полотенце, завешивались окна, зажигались дрожащими руками восковыесвечки... Не то притворялась, не то и впрямь заразилась страхом даже барыня. Прежде она говорила, что гроза - "явление природы". Теперь она тоже крестилась и жмурилась, вскрикивала при молниях, а чтобы увеличить исвой страх, и страх окружающих, все рассказывала о какой-то необыкновенной грозе, разразившейся в 1771-м году в Тироле и сразу убившей стоодиннадцать человек. А слушательницы подхватывали - торопились рассказать свое: то о ветле, дотла сожженной на большой дороге молнией, то обабе, пришибленной на днях в Черкизове громом, то о какой-то тройке,столь оглушенной в пути, что вся она упала на колени... Наконец, к этимрадениям пристрял некто Юшка, "провинёный монах", как он называл себя
IX
Родом Юшка был мужик. Но палец о палец не ударил он никогда, а жил,где бог пошлет, платя за хлеб, за соль рассказами о своем полнейшем безделье и о своей "провинности". - "Я, брат, мужик, да умен и на горбатогопохож, - говорил он. - Что ж мне работать!"
И правда, смотрел он как горбун - едко и умно, растительности на лицене имел, плечи, по причине рахитизма грудной клетки, держал приподнятыми, грыз ногти, пальцы его, которыми он поминутно закидывал назад длинные красно-бронзовые волосы, были тонки и сильны. Пахать показалось ему"непристойно и скучно". Вот он и пошел в Киевскую лавру, "подрос там" и был изгнан "за провинность". Тогда, сообразив, что прикидыватьсястранником по святым местам, человеком, спасающим душу, - старо, а можетоказаться и неприбыльно, попробовал прикинуться иначе: не снимая подрясника, стал открыто хвастаться своим бездельем и похотливостью, курить ипить сколько влезет, - он никогда не пьянел, - издеваться над лаврой ипояснять, за что именно изгнан он оттуда, при посредстве непристойнейшихжестов и телодвижений.
- Ну, известно, - рассказывал он мужикам, подмигивая, - известно,сейчас меня, раба божья, за это за самое по шее. Я и закатился домой, наРусь... Не пропаду, мол!
И точно - не пропал: Русь приняла его, бесстыжего грешника, с неменьшим радушием, чем спасающих души: кормила, поила, пускала ночевать,с восторгом слушала его.
- Так и зарекся ты навек работать? - спрашивали мужики, блестя глазами в ожидании едких откровенностей.
- Черт меня теперь заставит работать! - отзывался Юшка. - Набалован,брат! Яровит я пуще козла лаврского. Девки эти самые, - мне бабы и даромне надобны! - боятся меня до смерти, а любят. Да что ж! Я и сам -хотькуда: пёрушком не хорош, зато косточкой строён!
Явившись в суходольскую усадьбу, он, как человек бывалый, прямо вошелв дом, в прихожую. Там на лавке сидела Наташка, напевая: "Я мела, млада,сенюшки, нашла себе сахарцу..." Увидев его, она в ужасе вскочила.
- Да кто-й-то? - крикнула она.
- Человек, - ответил Юшка, быстро оглядывая ее с ног до головы. - Доложи барыне.
- Кто это? - крикнула и барыня из зала.
Но Юшка в одну минуту успокоил ее: сказал, что он бывший монах, авовсе не беглый солдат, как она, верно, подумала, что он возвращается народину - и просит обыскать его, а затем разрешить ему переночевать, отдохнуть немного. И так поразил своей прямотой барыню, что на другой жедень мог перебраться в лакейскую и стать совсем своим человеком в доме
Шли грозы, а он без устали забавлял хозяек рассказами, придумал забитьслуховые окна, чтобы обезопасить крышу от молний, выбегал под самыестрашные удары на крыльцо, чтобы показать, как они не страшны, помогалдевкам ставить самовары. Девки косились на него, чув1твуя на себе егобыстрые, похотливые взгляды, но смеялись его шуткам, а Наташка, которуюон уже не раз останавливал в темном коридоре быстрым шепотом: "Влюбилсяя в тебя, девка!" - глаз не смела на него поднять. Он был и гадок ей запахом махорки, пропитавшим весь его подрясник, и страшен, страшен.
Она уже твердо знала, что будет. Она спала одна, в коридоре, возледвери в спальню барышни, а Юшка уже отрубил ей: "Приду. Хоть зарежь,приду. А закричишь - дотла вас сожгу". Но что пуще всего лишало ее сил,так это сознание, что совершается нечто неминучее, что близко осуществление страшного сна ее, - в Сошках, про козла, - что, видно, на роду написано ей погибать вместе с барышней. Уже все понимали теперь: поночам вселяется в дом сам дьявол. Все понимали, что именно, помимо грози пожаров, с ума сводило барышню, что заставляло ее сладко и дико стонать во сне, а затем вскакивать с такими ужасными воплями, перед которыми ничто самые оглушительные удары грома. Она вопила: "Змий эдемский,иерусалимский душит мя!" А кто же этот змий, как не черт, не тот самыйкозел, что входит по ночам к женщинам и девушкам? И есть ли что-либо вмире более страшное, чем приходы его в темноте, в ненастные ночи с немолчными перекатами грома и отблесками молний по черным иконам? Тастрасть, та похоть, с которой шептал Наташке проходимец, была тоже нечеловеческая: как же можно было противиться ей? Думая о своем роковом, неминучем часе/сидя ночью на полу в коридоре, на своей попонке, и сбьющимся сердцем вглядываясь в темноту, прислушиваясь к каждому малейшему треску и шороху в спящем доме, уже чувствовала она первые приступытой тяжкой болезни, что долго мучила ее впоследствии: внезапно возникалзуд в ее ступне, проходила по ней острая, колючая судорога, гнула, крючила все пальцы к подошве - и бежала, изуверски, сладострастно крутя жилы, по ногам, по всему телу, вплоть до глотки, до того момента, когдахотелось вскрикнуть еще неистовее, еще сладостнее и мучительнее, чемвскрикивала барышня...
И неминучее свершилось. Юшка пришел - как раз в страшную ночь концалета, в ночь под Илью Наделящего, древнего Огнеметателя. Не было грома вту ночь, и не было сна у Наташки. Она задремала - и вдруг, как от толчка, очнулась. Было самое глухое время - она поняла это своим безумно колотившимся сердцем. Она вскочила, глянула в один конец коридора, в другой: со всех сторон вспыхивало, воспламенялось, трепетало и слепило золотыми и бледно-голубыми сполохами молчаливое, полное огня и таинств небо. В прихожей поминутно делалось светло, как днем. Она побежала - и остановилась как вкопанная: осиновые бревна, давно лежавшие на дворе заокном, ослепительно белели при вспышках. Она сунулась в зал: там былоодно окно поднято, слышался ровный шум сада, было темнее, но тем ярчесверкал огонь за всеми стеклами, мраком заливалось все, но тотчас жеопять вздрагивало, загоралось то там, то тут, - и мелькал, рос, трепетали сквозил на огромном, то золотом, то бело-фиолетовом небосклоне весьсад своими кружевными вершинами, призраками бледно-зеленых берез и тополей.
- На море, на окияне, на острове Буяне... - зашептала она, кидаясь