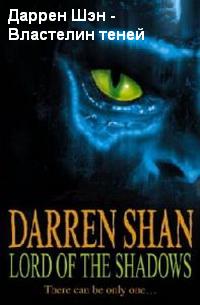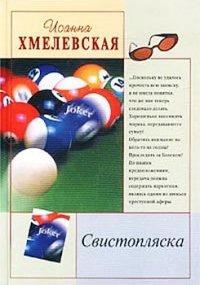Книга "Темные аллеи". Страница 15
оглянуться, как жизнь пройдет!
-- Ну, до этого еще далеко.
-- Увы, недалеко! А я еще ничего, ничего не испытала вжизни!
-- Еще не поздно испытать.
И тут она вдруг с усмешкой тряхнула головой:
-- И испытаю!
-- А кто ваш муж? Чиновник?
Она махнула ручкой:
-- Ах, очень хороший и добрый, но, к сожалению, совсем неинтересный человек... Секретарь нашей земской уездной управы...
"Какая милая и несчастная!" -- подумал он и вынулпортсигар:
-- Хотите папиросу?
-- Очень!
И она неумело, но отважно закурила, быстро, по-женскизатягиваясь. И в нем еще раз дрогнула жалость к ней, к ееразвязности, а вместе с жалостью -- нежность и сладострастноежелание воспользоваться ее наивностью и запоздалойнеопытностью, которая, он уже чувствовал, непременно соединитсяс крайней смелостью. Теперь, сидя в столовой, он с нетерпениемсмотрел на ее худые руки, на увядшее и оттого еще болеетрогательное личико, на обильные, кое-как убранные темныеволосы, которыми она все встряхивала, сняв черную шляпку искинув с плеч, с бумазейного платья серое пальтишко. Егоумиляла и возбуждала та откровенность, с которой она говорила сним вчера о своей семейной жизни, о своем немолодом возрасте, ито, что она вдруг так расхрабрилась теперь, делает и говориткак раз то, что так удивительно не идет к ней. Она слегкараскраснелась от водки, даже бледные губы ее порозовели, глазаналились сонно-насмешливым блеском.
-- Знаете, -- сказала она вдруг, -- вот мы говорили омечтах: знаете, о чем я больше всего мечтала гимназисткой?Заказать себе визитные карточки! Мы совсем обеднели тогда,продали остатки имения и переехали в город, и мне совершеннонекому было давать их, а как я мечтала! Ужасно глупо...
Он сжал зубы и крепко взял ее ручку, под тонкой кожейкоторой чувствовались все косточки, но она, совсем не понявего, сама, как опытная обольстительница, поднесла ее к егогубам и томно посмотрела на него.
-- Пойдем ко мне...
-- Пойдем... Здесь, правда, что-то душно, накурено!
И, встряхнув волосами, взяла шляпку.
Он в коридоре обнял ее. Она гордо, с негой посмотрела нанего через плечо. Он с ненавистью страсти и любви чуть неукусил ее в щеку. Она, через плечо, вакхически подставила емугубы.
В полусвете каюты с опущенной на окне сквозной решеткойона тотчас же, спеша угодить ему и до конца дерзко использоватьвсе то неожиданное счастье, которое вдруг выпало на ее долю сэтим красивым, сильным и известным человеком, расстегнула истоптала с себя упавшее на пол платье, осталась, стройная, какмальчик, в легонькой сорочке, с голыми плечами и руками и вбелых панталончиках, и его мучительно пронзила невинность всегоэтого.
-- Все снять? -- шепотом спросила она, совсем, какдевочка.
-- Все, все, -- сказал он, мрачнея все более.
Она покорно и быстро переступила из всего сброшенного напол белья, осталась вся голая, серо-сиреневая, с тойособенностью женского тела, когда оно нервно зябнет, становитсятуго и прохладно, покрываясь гусиной кожей, в одних дешевыхсерых чулках с простыми подвязками, в дешевых черных туфельках,и победоносно пьяно взглянула на него, берясь за волосы ивынимая из них шпильки. Он, холодея, сло4ил за ней. Телом онаоказалась лучше, моложе, чем можно было думать. Худые ключицы иребра выделялись в соответствии с худым лицом и тонкимиголенями. Но бедра были даже крупны. Живот с маленьким глубокимпупком был впалый, выпуклый треугольник темных красивых волоспод ним соответствовал обилию темных волос на голове. Онавынула шпильки, волосы густо упали на ее худую спину ввыступающих позвонках. Она наклонилась, чтобы поднять спадающиечулки, -- маленькие груди с озябшими, сморщившимися коричневымисосками повисли тощими грушками, прелестными в своей бедности
И он заставил ее испытать то крайнее бесстыдство, которое такне к лицу было ей и потому так возбуждало его жалостью,нежностью, страстью... Между планок оконной решетки, косоторчавших вверх, ничего не могло быть видно, но она свосторженным ужасом косилась на них, слышала беспечный говор ишаги проходящих по палубе под самым окном, и это еще страшнееувеличивало восторг ее развратности. О, как близко говорят иидут -- и никому и в голову не приходит, что делается на шаг отних, в этой белой каюте!
Потом он ее, как мертвую, положил на койку. Сжав зубы, оналежала с закрытыми глазами и уже со скорбным успокоением напобледневшем и совсем молодом лице.
Перед вечером, когда пароход причалил там, где ей нужнобыло сходить, она стояла возле него тихая, с опущеннымиресницами. Он поцеловал ее холодную ручку с той любовью, чтоостается где-то в сердце на всю жизнь, и она, не оглядываясь,побежала вниз по сходням в грубую толпу на пристани.
5 октября 1940
ЗОЙКА И ВАЛЕРИЯ
Зимой Левицкий проводил все свое свободное время вмосковской квартире Данилевских, летом стал приезжать к ним надачу в сосновых лесах по Казанской дороге.
Он перешел на пятый курс, ему было двадцать четыре года,но у Данилевских только сам доктор говорил ему "коллега", а всеостальные звали его Жоржем и Жоржиком. По причине одиночества ивлюбчивости, он постоянно привязывался к какому-нибудьзнакомому дому, скоро становился в нем своим человеком, гостемизо дня в день и даже с утра до вечера, если позволяли занятия,-- теперь стал он таким у Данилевских. И тут не только хозяйка,но даже дети, очень полная Зойка и ушастый Гришка, обращались сним, как с каким-нибудь дальним и бездомным родственником. Былон с виду прост и добр, услужлив и неразговорчив, хотя сбольшой готовностью отзывался на всякое слово, обращенное кнему.
Пациентам Данилевского отворяла дверь пожилая женщина вбольничном платье, они входили в просторную прихожую, устланнуюковрами и обставленную тяжелой старинной мебелью, и женщинанадевала очки, с карандашом в руке строго смотрела в свойдневник и одним назначала день и час будущего приема, а другихвводила в высокие двери приемной, и там они долго ждали вызовав соседний кабинет, на допрос и осмотр к молодому ассистенту всахарно-белом халате, и только уже после этого попадали ксамому Данилевскому, в его большой кабинет с высоким одром узадней стены, на который он заставлял некоторых из них влезатьи ложиться в самой жалкой и неловкой от страха позе: пациентоввсе смущало -- не только ассистент и женщина в прихожей, где стакой гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны всторону медный диск маятника в старинных стоячих часах, но ивесь важный порядок этой богатой, просторной квартиры, этовыжидательное молчание приемной, где никто не смел сделатьлишнего вздоха, и все они думали, что это какая-то совсемособенная, вечно безжизненная квартира и что сам Данилевский,высокий, плотный, грубоватый, вряд ли хоть раз в годуулыбается. Но они ошибались: в той жилой части квартиры, кудавели двойные двери из прихожей направо, почти всегда было шумноот гостей, со стола в столовой не сходил самовар, бегалагорничная, добавляя к столу то чашек и стаканов, то вазочек свареньем, то сухарей и булочек, и Данилевский даже в часыприема нередко пробегал туда по прихожей на цыпочках и, покапациенты ждали его, думая, что он страшно занят каким-нибудьтяжелобольным, сидел, пил чай, говорил про них гостям: "Хайтрошки подождут, матери их черт!" Однажды, сидя так и сусмешкой поглядывая на Левицкого, на сухую худобу и некоторуюгнутость его тела, на его слегка кривые ноги и впалый живот, наобтянутое тонкой кожей лицо в веснушках, ястребиные глаза ирыжие, круто вьющиеся волосы, Данилевский сказал:
-- А признайтесь, коллега: ведь есть в вас какая-нибудьвосточная кровь, жидовская, например, или кавказская?
Левицкий ответил со своей неизменной готовностью кответам:
-- Никак нет, Николай Григорьевич, жидовской нет. Естьпольская, есть, может быть, ваша украинская, -- ведь Левицкиеесть и украинцы, -- слышал от деда, будто есть и турецкая, ноправда ли, один аллах ведает