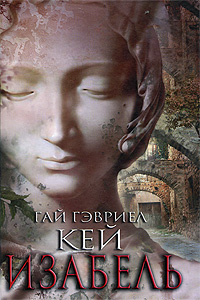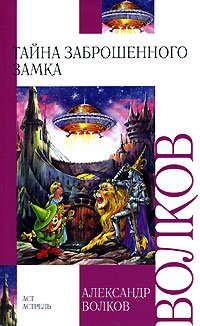Книга "Темные аллеи". Страница 43
полотно и так и этак, прищуриваясь, и рассеянно говорит:
-- Ну, станция. Подогревай второй кофейник.
Она облегченно вздыхает и, топая босыми ногами поциновкам, бежит в угол мастерской, к газовой плитке. Он что-тососкребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кислопахнет своими зелеными рожками и душисто кофием, а онабеззаботно запевает на всю мастерскую звонким голосом:
Начинала ту-учка, ту-учка золота-ая...
На груди-и утеса велика-ана...
И, повернув голову, радостно говорит:
-- Это мине художник Ярцев выучил. Вы его знавали?
-- Знал немного. Долговязый такой?
-- Он самый.
-- Даровитый малый был, но дубина порядочная. Он ведь,кажется, помер?
-- Помер, помер. Спился. Нет, он добрый был. Я с ним годжила, вот как с вами. Он и невинности меня лишил всего навтором сеансе. Вскочил вдруг от мольберта, бросил палитру скистями и сбил мине с ног на ковер. Я испужалась до того, что икрикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак, да кудатебе! Глаза бешеные, веселые... Как ножом зарезал.
-- Да, да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И тывсе-таки любила его?
-- Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной,выпимши, не приведи Господи. Я молчу, а он: "Катька, молчать!"
-- Хорош!
-- Пьяный. Кричит на всю студию: "Катька, молчать!" А я итак молчу. Потом как зальется, зальется: "Начивала тучка..." Исичас же подхватит на иные слова: "Начивала сучка, сучкамолодая" -- это я-то, значит. Со смеху помрешь! И опять -- трахногой в пол: "Катька, молчать!"
-- Хорош. Но постой, я забыл: ведь тебя какой-то твой дядяпривез в Москву?
-- Дядя, дядя. Осталась я сиротой по шашнадцатому году, аон мине и привез. Это уж к моему другому дяде в его извощичийтрактир. Я там посуду мыла, белье хозяйское стирала, потом тетявздумала в бордель меня продать. И продала бы, да Бог спас
Приехали раз под утро из "Стрельни" опохмеляться Шаляпин сКоровиным, увидали, как я тащила на стойку с Родькой-половымкипячий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать: "С добрымутром, Катенька! Хотим, чтоб бссприменно ты, а не этот сукинсын половой подавал нам!" Ведь как угадали, что меня Катейзовут! Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насупился -- она,говорит, не к этому делу приставлена, не может подавать. АШаляпин как рявкнет: "В Сибири сгною, в кандалы закую -- слушаймой приказ!" Тут дядя сразу испужался, я тоже насмертьиспужалась, уперлась было, а дядя шипит: "Иди подавай, а то япотом шкуру с тебя спущу, это самый знаменитыи люди во всейМоскве". Я и пошла, а Коровин оглядел мине всю, дал десятьрублей и велел к нему завтра притить, писать мине вздумал, далсвой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал кдоктору Голоушеву, он был страшный приятель со всемихудожниками, пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции итоже немножко писал. Ну, он и пустил мине по рукам, не велелворочаться в трактир, я так и осталась в одном платьишке.
-- То есть как это пустил по рукам?
-- А так. По мастерским. Сперва я позировала вся одетая, вжелтом платочке, и все художницам, Кувшинниковой, сестреЧехова, -- она, по правде сказать, совсем никуда была в нашемделе, дилитанка, -- потом попала аж к самому Малявину: он минепосадил голую на ноги, на пятки, спиной к себе, с рубашкой надголовой, будто я ее надеваю, и написал. Спина и зад вышлиотлично, сильная лепка, только он испортил пятками и подошвами,совсем противно вывернул их под задом...
-- Ну, Катька, молчать. Второй звонок. Давай кофейник.
-- Ой, батюшки, заговорилась! Даю, даю...
30 апреля 1944
ХОЛОДНАЯ ОСЕНЬ
В июне того года он гостил у нас в имении -- всегдасчитался у нас своим человеком: покойный отец его был другом исоседом моего отца. Пятнадцатого июня убили в СараевеФердинанда. Утром шестнадцатого привезли с почты газеты. Отецвышел из кабинета с московской вечерней газетой в руках встоловую, где он, мама и я еще сидели за чайным столом, исказал:
-- Ну, друзья мои, война! В Сараеве убит австрийскийкронпринц. Это война!
На Петров день к нам съехалось много народу, -- былиименины отца, -- и за обедом он был объявлен моим женихом. Нодевятнадцатого июля Германия объявила России войну...
В сентябре он приехал к нам всего на сутки -- проститьсяперед отъездом на фронт (все тогда думали, что война кончитсяскоюE, и свадьба наша была отложена до весны). И вот настал нашпрощальный вечер. После ужина подали, по обыкновению, самовар,и, посмотрев на запотевшие от его пара окна, отец сказал:
-- Удивительно ранняя и холодная осень!
Мы в тот вечер сидели тихо, лишь изредка обменивалисьнезначительными словами, преувеличенно спокойными, скрывая своитайные мысли и чувства. С притворной простотой сказал отец ипро осень. Я подошла к балконной двери и протерла стеклоплатком: в саду, на черном небе, ярко и остро сверкали чистыеледяные звезды. Отец курил, откинувшись в кресло, рассеянноглядя на висевшую над столом жаркую лампу, мама, в очках,старательно зашивала под ее светом маленький шелковый мешочек,-- мы знали какой, -- и это было и трогательно и жутко. Отецспросил:
-- Так ты все-таки хочешь ехать утром, а не послезавтрака?
-- Да, если позволите, утром, -- ответил он. -- Оченьгрустно, но я еще не совсем распорядился по дому.
Отец легонько вздохнул:
-- Ну, как хочешь, душа моя. Только в этом случае нам смамой пора спать, мы непременно хотим проводить тебя завтра...
Мама встала и перекрестила своего будущего сына, онсклонился к ее руке, потом к руке отца. Оставшись одни, мы ещенемного побыли в столовой, -- я вздумала раскладывать пасьянс,-- он молча ходил из угла в угол, потом спросил:
-- Хочешь пройдемся немного?
На душе у меня делалось все тяжелее, я безразличноотозвалась:
-- Хорошо...
Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милойусмешкой вспомнил стихи Фета:
Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...
-- Капота нет, -- сказала я. -- А как дальше?
-- Не помню. Кажется, так:
Смотри -- меж чернеющих сосен
Как будто пожар восстает...
-- Какой пожар?
-- Восход луны, конечно. Есть какая-то деревенская осенняяпрелесть в этих стихах. "Надень свою шаль и капот..." Временанаших дедушек и бабушек... Ах, Боже мой, Боже мой!
-- Что ты?
-- Ничего, милый друг. Все-таки грустно. Грустно и хорошо
Я очень, очень люблю тебя...
Одевшись, мы прошли через столовую на балкон, сошли в сад
Сперва было так темно, что я держалась за его рукав. Потомстали обозначаться в светлеющем небе черные сучья, осыпанныеминерально блестящими звездами. Он, приостановясь, обернулся кдому:
-- Посмотри, как совсем особенно, по-осеннему светят окнадома. Буду жив, вечно буду помнить этот вечер...
Я посмотрела, и он обнял меня в моей швейцарской накидке
Я отвела от лица пуховый платок, слегка отклонила голову, чтобыон поцеловал меня. Поцеловав, он посмотрел мне в лицо.
-- Как блестят глаза, -- сказал он. -- Тебе не холодно?Воздух совсем зимний. Если меня убьют, ты все-таки не сразузабудешь меня?
Я подумала: "А вдруг правда убьют? и неужели я все-такизабуду его в какой-то срок -- ведь все в конце концовзабывается?" И поспешно ответила, испугавшись своей мысли:
-- Не говори так! Я не переживу твоей смерти!
Он, помолчав, медленно выговорил:
-- Ну что ж, если убьют, я буду ждать тебя там. Ты поживи,порадуйся на свете, потом приходи ко мне.
Я горько заплакала...
Утром он уехал. Мама надела ему на шею тот роковой