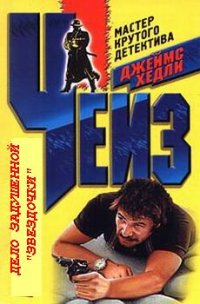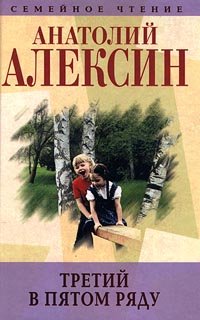Книга "Другие берега". Страница 7
колыбели, каких-то туманных елок, каких-то комнатныхперспектив,-- редкая группа обходилась без таксы, срасплывшейся от темперамента задней частью гибкого тела ивсегда с тем странным, психопатически-эвездным взглядом,который у этой породы бывает на семейных снимках. В раннемдетстве я еще застал на садовом угреве Лулу и Бокса Первого,мать и сына, столь дряхлых, что давно забылся кровосмесительныйих союз, озадачивший былых детей. Около 1904 года отец привез сМюнхенской выставки рыжего щенка, из которого выросла,удивительной таксичьей красоты, Трэйни. В 1915 году у нееотнялись задние ноги, и пока мать не решилась ее усыпить,бедная собака уныло ездила по паркетам, как cul-de-jatte(Безногий (франц ) ). Затем кто-то подарил нам внука илиправнука чеховских Хины и Брома. Этот окончательный таксик(представляющий одно из немногих звеньев между мною и русскимиклассиками) последовал за нами в изгнание, и еще в 1930 году вПраге, где моя овдовевшая мать жила на крохотную казеннуюпенсию, можно было видеть ковыляющего по тусклой зимней улицедалеко позади своей задумчивой хозяйки этого старого, все ещесердитого Бокса Второго,-- эмигрантскую собаку в длинномпроволочном наморднике и заплатанном пальтеце.
Я жил далеко от матери, в Германии или Франции, и не могчасто ее навещать. Не было меня при ней и когда она умерла, вмае 1939 года. Всякий раз, что удавалось посетить Прагу, яиспытывал в первую секунду встречи ту боль, ту растерянность,тот провал, когда приходится сделать усилие, чтобы нагнатьвремя, ушедшее за разлуку вперед, и восстановить любимые чертыпо не стареющему в сердце образцу. Квартира, которую она делилас внуком и Евгенией Константиновной Г., самым близким еедругом, была донельзя убогой. Клеенчатые тетради, в которые онасписывала в течение многих лет нравившиеся ей стихи, лежали накое-как собранной ветхой мебели. Ужасно скоро треплющиесятомики эмигрантских изданий соседствовали со слепком отцовскойруки. Около ее кушетки, ночью служившей постелью, ящик,поставленный вверх дном и покрытый зеленой материей, заменялстолик, и на нем стояли маленькие мутные фотографии вразваливающихся рамках. Впрочем она едва ли нуждалась в них,ибо оригинал жизни не был утерян. Как бродячая труппа всюдувозит с собой, поскольку не забыты реплики, и дюны под бурей, изамок в тумане, и очарованный остров,-- так носила она в себевсе, что душа отложила про этот серый день. Совершенно ясновижу ее, сидящую за чайным столом и тихо созерцающую, с однойкартой в руке, какую-то фазу в раскладке пасьянса; другой рукойона облокотилась об стол, и в ней же, прижав сгиб большогопальца к краю подбородка, держит близко ко рту папироскусобственной набивки. На четвертом пальце правой руки--теперьопускающей карту -- горит блеск двух золотых колец: обручальноекольцо моего отца, слишком для нее широкое, привязано чернойниточкой к ее собственному кольцу.
Когда мне снятся умершие, они всегда молчаливы, озабочены,смутно подавлены чем-то, хотя в жизни именно улыбка была сутьюих дорогих черт. Я встречаюсь с ними без удивления, в местах иобстановке, в которых они никогда не бывали при жизни -например, в доме у человека, с которым я познакомился толькопотом. Они сидят в стороно5, хмуро опустив глаза, как если бысмерть была темным пятном, постыдной семейной тайной. И конечноне там и не тогда, не в этих косматых снах, дается смертномуредкий случай заглянуть за свои пределы, а дается этот случайнам наяву, когда мы в полном блеске сознания, в минуты радости,силы и удачи -- на мачте, на перевале, за рабочим столом... Ихоть мало различаешь во мгле, все же блаженно верится, чтосмотришь туда, куда нужно
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Восемнадцати лет покинув Петербург, я (вот примергаллицизма) был слишком молод в России, чтобы проявитькакое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею обэтом--из соображений технических: при отчетливости личнойпамяти неотчетливость семейной отражается на равновесии слов
Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил менядвоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большойлюбитель таких изысканий. У него получалось, что старыйдворянский род Набоковых произошел не от каких-то псковичей,живших как-то там в сторонке, на обочье, и не откривобокого, набокого, как хотелось бы, а от обрусевшегошестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок
Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была изДревнего немецкого (вестфальского) рода и находила простуюпрелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто быназван остров Корфу. Корфы эти обрусели еще в восемнадцатомвеке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. Поотцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойствес Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами. Думаю, что былоуже почти темно, когда по скрипучему снегу внесли раненого вгек-кернскую карету. Среди моих предков много служилых людей;есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн;есть сибирский золотопромышленник и миллионщик (ВасилийРукавишников, дед моей матери Елены Ивановны); есть ученыйпрезидент медико-хирургической академии (Николай Козлов, другойее дед); есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского имногих других сражений, генерал от инфантерии Иван Набоков(брат моего прадеда), он же директор Чесменской богадельни икомендант С.-Петербургской крепости -- той, в которой сиделсупостат Достоевский (рапорты доброго Ивана Александровича царюнапечатаны -- кажется, в "Красном Архиве"); есть министрюстиции Дмитрий Николаевич Набоков (мой дед); и есть, наконец,известный общественный деятель Владимир Дмитриевич (мой отец).
Набоковский герб изображает собой нечто вроде шашечницы сдвумя медведями, держащими ее с боков: приглашение на шахматнуюпартию, у камина, после облавы в майоратском бору;рукавишниковский же, поновее, представляет стилизованную домну
Любопытно, что уральские прииски, Алапаевские заводы,аллитеративные паи в них -- все это давно уже рухнуло, когда, втридцатых годах сего века, в Берлине, многочисленным потомкамкомпозитора Грауна (главным образом каким-то немецким баронам иитальянским графам, которым чуть не удалось убедить суд, чтовсе Набоковы вымерли) досталось, после всех девальваций,кое-что от замаринованных впрок доходов с его драгоценныхтабакерок. Этот мой предок, Карл-Генрих Граун (1701--1759),талантливый карьерист, автор известной оратории "СмертьИисуса", считавшейся современными ему немцами непревзойденной,и помощник Фридриха Великого в писании опер, изображен сдругими приближенными (среди них--Вольтер) слушающимкоролевскую флейту, на пресловутой картине Менцеля, котораяпреследовала меня, эмигранта, из одного берлинского пансиона вдругой. В молодости Граун обладал замечательным тенором;однажды, выступая в какой-то опере, написанной брауншвейгскимкапельмейстером Шурманом, он на премьере заменил не нравившиесяему места ариями собственного сочинения. Только тут чувствуюкакую-то вспышку родства между мной и этим благополучныммузыкальным деятелем. Гораздо ближе мне другой мой предок,Николай Илларионович Козлов (1814--1889), патолог, автор такихработ как "О развитии идеи болезни" или "Сужение яремной дыры улюдей умопомешанных и самоубийц" -- в каком-то смысле служащихзабавным прототипом и литературных и лепидоптерологических моихработ. Его дочь Ольга Николаевна была моей бабушкой; я былмладенцем, когда она умерла. Его другая дочь, ПрасковьяНиколаевна, вышла за знаменитого сифилидолога Тарновского исама много писала по половым вопросам; она умерла в 1913 году,кажется, и ее странные, ясно произнесенные последние слова были"Теперь понимаю: вс° -- вода". О ней и о разных диковинных, аиногда и страшных, Рукавишниковых у матери было многовоспоминаний... Я люблю сцепление времен: когда она гостиладевочкой у своего деда, старика Василья Рукавишникова, в егокрымском имении, Айвазовский, очень посредственный, но оченьзнаменитый маринист того времени, рассказывал в ее присутствии,как он, юношей, видел Пушкина и его высокую жену, и пока он эторассказывал, на серый цилиндр художника белилами испражниласьпролетавшая птица: его моря темно сизели по разным углампетербургского (а после -- деревенского) дома, и АлександрБенуа, проходя мимо них и мимо мертвечины своегобрата-академика Альберта, и мимо "Проталины" Крыжицкого, где нетаяло ничего , и мимо громадного прилизанного Перовского"Прибоя" в зале, делал шоры из рук и как-то музыкально-смугломычал "Non, поп, поп, c'est affreux (Нет, нет, это ужасно"(франц.)), какая сушь, задерните чем-нибудь"--и соблегчением переходил в кабинет моей матери, где его,