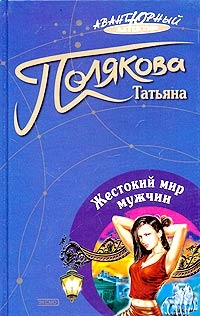Книга "Другие берега". Страница 35
заключив белое пламя в стекло, осторожно углублялся в мрак
Круг света выбирал влажный выглаженный край дороги междуртутным блеском луж посредине и сединой трав вдоль нее. Шаткимпризраком мой бледный луч вспрыгивал на глинистый скат уповорота и опять нащупывал дорогу, по которой, чуть слышнострекоча, я съезжал к реке. За мостом тропинка, отороченнаямокрым жасмином, круто шла вверх; приходилось слезать свелосипеда и толкать его в гору, и капало на руку. Наверхумертвенный свет карбида мелькал по лоснящимся колоннам,образующим портик с задней стороны дядиного дома. Там, вприютном углу у закрытых ставень окна, под аркадой, ждала меняТамара. Я гасил фонарик и ощупью поднимался по скользкимступеням. В беспокойной тьме ночи столетние липы скрипели ишумно накипали ветром. Из сточной трубы, сбоку от благосклонныхколонн, суетливо и неутомимо бежала вода, как в горном ущелье
Иногда случайный добавочный шорох, перебивавший ритм дождя влистве при соприкосновении двух мощных ветвей, заставлял Тамаруобращать лицо в сторону воображаемых шагов, и тогда я различалее таинственные черты, как бы при собственной их фосфористости;но это подкрадывался только дождь, и, тихо выпустив задержанноена мгновение дыхание, она опять закрывала глаза.
С наступлением зимы наш безрассудный роман был перенесен вгородскую, гораздо менее участливую обстановку. Все то, чтомогло казаться -- да и кажется многим-- просто атрибутамиклассической поэзии, вроде "лесной сени", "уединенности","сельской неги" и прочих пушкинских галлицизмов, внезапноприобрело весомость и значительность, когда мы в самом делелишились нашего деревенского убежища. Меблированные комнаты,сомнительные, как говорится, гостиницы, отдельные кабинеты,весь трафарет французских влияний на родную словесность послеПушкина, был, признаюсь, вне предела дерзанийшестнадцатилетнего тенишевца. Негласность свиданий, стольприятная и естественная в деревне, теперь обернулась противнас; и так как обоим нам была невыносима мысльвстречаться у меня или у нее на дому, под неизбежнымпосторонним наблюдением, а лукавства у нас не хватало, чтобыпредвидеть, как скоро мы бы с этим наблюдением справились,Тамара, в своей скромной серой шубке, и я с кастетом вбархатном кармане пальто, принуждены были странствовать поулицам, по обледенелым петербургским садам, по закоулкам, гдекак-то разваливалась набережная и где приходилось сталкиватьсяс хулиганьем,-- и эти постоянные искания приюта порождалистранное чувство бездомности: тут начинается темабездомности,-- глухое предисловие к позднейшим, значительноболее суровым блужданиям.
Мы пропускали школу: не помню, как устраивалась Тамара; яже подкупал нашего швейцара Устина, заведовавшего нижнимтелефоном (24--43), и Владимир Васильевич Гиппус, частозвонивший из школы, чтобы справиться о моем пошатнувшемсяздоровье, не видал меня в классе, скажем, с понедельника допятницы, а во вторник я опять начинал болеть. Мы сиживали наскамейках в Таврическом Саду, сняв сначала ровную снежнуюпопону с холодного сидения, а затем варежки с горячих рук. Мыпосещали музеи. В будни по утрам там бывало дремотно и пусто, иклим0т был оранжерейный по сравнению с тем, что происходило ввосточном окне, где красное, как апельсин-королек, солнце низковисело в замерзшем сизом небе. В этих музеях мы отыскивалисамые отдаленные, самые неказистые зальца, с небольшимисмуглыми голландскими видами конькобежных утех в тумане, софортами, на которые никто не приходил смотреть, спалеографическими экспонатами, с тусклыми макетками, с моделямипечатных станков и тому подобными бедными вещицами, средикоторых посетителем забытая перчатка прямо дышала жизнью. Однойиз лучших наших находок был незабвенный чулан, где сложены былилесенки, пустые рамы, щетки. В Эрмитаже, помнится, имелиськое-какие уголки,-- в одной из зал среди витрин с египетскими,прескверно стилизованными, жуками, за саркофагом какого-тожреца по имени Нана. В Музее Александра Третьего, тридцатая итридцать третья залы, где свято хранились такие академическиеникчемности, как например картины Шишкова иХарламова,--какая-нибудь "Просека в бору" или "Головацыганенка": (точнее не помню),-- отличались закутами завысокими стеклянными шкалами с рисунками и оказывали намподобие гостеприимства,-- пока не ловил нас грубый инвалид
Постепенно из больших и знаменитых музеев мы переходили вмаленькие, в Музей Суворова, например, где, в герметическойтишине одной из небольших комнат, полной дряхлых доспехов ирваных шелковых знамен, восковые солдаты в ботфортах и зеленыхмундирах держали почетный караул над нашей безумнойнеосторожностью. Но куда бы мы ни заходили, рано или поздно тотили другой седой сторож на замшевых подошвах присматривался кнам, что было нетрудно в этой глуши,-- и приходилось опятьпереселяться куда-нибудь, в Педагогический Музей, в Музейпридворных карет, и наконец в крохотное хранилище старинныхгеографических карт,-- и оттуда опять на улицу, в вертикальнопадающий крупный снег Мира Искусства.
Под вечер мы часто скрывались в последний ряд одного изкинематографов на Невском, "Пикадилли" или "Паризиана"
Фильмовая техника несомненно шла вперед. Уже тогда, в 1915-омгоду, были попытки усовершенствовать иллюзию внесением красок извуков: морские волны, окрашенные в нездоровый синий цвет,бежали и разбивались об ультрамариновую скалу, в которой я состранным чувством узнавал Rocher de la Vierge (Скалу ПресвятойДевы (франц.)), Биарриц, прибой моего международногодетства, и пока как белье полоскалось это море в синьке,специальная машина занималась звукоподражанием, издаваяшипенье, которое почему-то никогда не могло остановитьсяодновременно с морской картиной, а всегда продолжалось ещедве-три секунды, когда уже мигала следующая: бодренькиепохороны под дождем в Париже или хилые оборванные военнопленныес подчеркнуто нарядными нашими молодцами, захватившими их
Довольно часто почему-то названием боевика служила целаяцитата, вроде "Отцвели уж давно хризантемы в саду" или "Исердцем как куклой играя, он сердце как куклу разбил", или еще"Не .подходите к ней с вопросами" (причем начиналось с того,что двое слишком любознательных интеллигентов с накладнымибородками вдруг вскакивали со скамьи на бульваре, имениДостоевского скорее чем Блока, и, жестикулируя, тесниликакую-то испуганную даму, подходя к ней, значит, с вопросами)
В те годы у звезд женского пола были низкие лобики, роскошныеброви, размашисто подведенные глаза. Одним из любимцев экранабыл актер Мозжухин. Какое-то русское фильмовое обществоприобрело нарядный загородный дом с белыми колоннами (несколькопохожий на дядин, что трогало меня), и эта усадьба появляласьво всех картинах этого общества. По фотогеническому снегу " нейподъезжал на лихаче Мозжухин, в пальто с каракулевым воротникомшалью, в каракулевом колпаке, и устремлял светло-стальнойвзгляд из темно-свинцовой глазницы на горящее окно, между темкак знаменитый желвачок играл у него под тесной кожей скулы.
Когда прошли холода, мы много блуждали лунными вечерами поклассическим пустыням Петербурга. На просторе дивной площадибеззвучно возникали перед нами разные зодческие призраки: ядержусь лексикона, нравившегося мне тогда. Мы глядели вверх нагладкий гранит столпов, отполированных когда-то рабами, ихвновь полировала луна, и они, медленно вращаясь над нами вполированной пустоте ночи, уплывали в вышину, чтобы тамподпереть таинственные округлости собора. Мы останавливалиськак бы на самом краю,-- словно то была бездна, а не высота,-грозных каменных громад, и в лилипутовом благоговениизакидывали головы, встречая на пути все новые видения,-десяток атлантов и гигантскую урну у чугунной решетки, или тотстолп, увенчанный черным ангелом, который в лунном сияниибезнадежно пытался дотянуться до подножья пушкинской строки.
Позднее, в редкие минуты уныния, Тамара говорила, чтонаша любовь как-то не справилась с той трудной петербургскойпорой и дала длинную тонкую трещину. В течение всех тех месяцевя не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней -- подве-три "пьески" в неделю; в 1916-ом году я напечатал сборник ибыл поражен, когда она мне указала, что большинство этихстихотворений -- о разлуках и утратах, ибо странным образомначальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенскойглуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались вту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима -изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стиховбыла исключительно плохая, и никогда бы не следовало ееиздавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногиерецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского Училища,В. В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мнетогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходиттрепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной