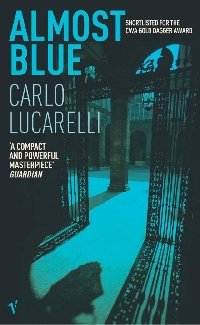Книга "Театральный роман". Страница 35
сложенный человек, бледный от природы, а теперь еще более бледный отзлобы, сжав кулаки и стараясь, чтобы его мощный голос звучал быстрашно, не глядя на Патрикеева, говорил:
- Я займусь вообще этим вопросом! Давно пора обратитьвнимание на циркачей, которые, играя на штампиках, позорят маркутеатра!
Комический актер Патрикеев, играющий смешных молодых людей насцене, а в жизни необыкновенно ловкий, поворотливый и плотный,старался сделать лицо презрительное и в то же время страшное, отчегоглаза у него выражали печаль, а лицо физическую боль, сиплым голоскомотвечал:
- Попрошу не забываться! Я актер Независимого Театра, а некинохалтурщик, как вы!Романус стоял вкулисе, удовлетворенно сверкая глазом, голоса ссорящихся покрывалголос Стрижа, кричавшего из кресел:
- Прекратите это сию минуту! Андрей Андреевич! Давайтетревожные звонки Строеву! Где он? Вы мне производственный плансрываете!
Андрей Андреевич привычной рукою жал кнопки на щите на поступомощника, и далеко где-то за кулисами, и в буфете, и в фойе тревожнои пронзительноE4ребезжали звонки.
Строев же, заболтавшийся в предбаннике у Торопецкой, в этовремя, прыгая через ступеньки, спешил к зрительному залу. На сцену онпроник не через зал, а сбоку, через ворота на сцену, пробрался кпосту, а оттуда к рампе, тихонько позвякивая шпорами, надетыми наштатские ботинки, и стал, искусно делая вид, что присутствует онздесь уже давным-давно.
- Где Строев? - завывал Стриж. - Звоните ему, звоните! Требуюпрекращения ссоры!
- Звоню! - отвечал Андрей Андреевич. Тут он повернулся иувидел Строева. - Я вам тревожные даю! - сурово сказал АндрейАндреевич, и тотчас звон в театре утих.
- Мне? - отозвался Строев. - Зачем мне тревожные звонки? Яздесь десять минут, если не четверть часа... минимум... Мама..
миа... - он прочистил горло кашлем.
Андрей Андреевич набрал воздуху, но ничего не сказал, атолько многозначительно посмотрел. Набранный же воздух он использовалдля того, чтобы прокричать:
- Прошу лишних со сцены! Начинаем!
Все улеглось, ушли бутафоры, актеры разошлись к своим местам
Романус в кулисе шепотом поздравил Патрикеева с тем, как онмужественно и правдиво возражал Владычинскому, которого давно ужепора одернуть
Глава 16. УДАЧНАЯ ЖЕНИТЬБА
В июне месяце стало еще жарче, чем в мае.
Мне запомнилось это, а остальное удивительным образомсмазалось в памяти. Обрывки кое-какие, впрочем, сохранились. Так,помнится дрыкинская пролетка у подъезда театра, сам Дрыкин в ватномсинем кафтане на козлах и удивленные лица шоферов, объезжавших дрыкинскуюпролетку.
Затем помнится большой зал, в котором были беспорядочнорасставлены стулья, и на этих стульях сидящие актеры. За столом же,накрытым сукном, Иван Васильевич, Стриж, Фома и я.
С Иваном Васильевичем я познакомился поближе за этот периодвремени и могу сказать, что все это время я помню, как время оченьнапряженное. Проистекало это оттого, что все усилия свои я направилна то, чтобы произвести на Ивана Васильевича хорошее впечатление, ихлопот у меня было очень много.
Через день я отдавал свой серый костюм утюжить Дусе иаккуратно платил ей за это по десять рублей.
Я нашел подворотню, в которой была выстроена утлая комнаткакак бы из картона, и у плотного человека, у которого на пальцах былодва бриллиантовых кольца, купил двадцать крахмальных воротничков иежедневно, отправляясь в театр, надевал свежий. Кроме того, мною, ноне в подворотне, а в государственном универсальном магазине былизакуплены шесть сорочек: четыре белых и одна в лиловую полоску, однав синеватую клетку, восемь галстуков разной расцветки. У человека безшапки, невзирая на то, какая была погода, сидящего на углу в центрегорода рядом со стойкой с развешанными на ней шнурками, я приобрелдве банки желтой ботиночной мази и чистил утром желтые туфли, беря уДуси щетку, а потом натирал туфли полой своегохалата.
Эти неимоверные, чудовищные расходы привели к тому, что я вдве ночи сочинил маленький рассказ под заглавием "Блоха" и с этимрассказом в кармане ходил в свободное от репетиций время по редакциямеженедельных журналов, газетам, пытаясь этот рассказ продать. Я началс "Вестника пароходства", в котором рассказ понравился, но гденапечатать его отказались на том и совершенно резонном основании, чтоникакого отношения к речному пароходству он не имеет. Долго и скучнорассказывать о том, как я посещал редакции и как мне в нихотказывали. Запомнилось лишь то, что встречали меня повсюду почему-тонеприязненно. В особенности помнится мне какой-то полный человек впенсне, который не только решительно отверг мое произведение, но ипрочитал мне что-то вроде нотации
- В вашем рассказечувствуется подмигивание, - сказал полный человек, и я увидел, что онсмотрит на меня с отвращением.
Нужно мне оправдаться. Полный человек заблуждался. Никакогоподмигивания в рассказе не было, но (теперь это можно сделать)надлежит признаться, что рассказ этот был скучен, нелеп и выдавалавтора с головой; никаких рассказов автор писать не мог, у него небыло для этого дарования.
Тем не менее произошло чудо. Проходив с рассказом в карманетри недели и побывав на Варварке, Воздвиженке, на Чистых Прудах, наСтрастном бульваре и даже, помнится, на Плющихе, я неожиданно продалсвое сочинение в Златоустинском переулке на Мясницкой, если неошибаюсь, в пятом этаже какому-то человеку с большой родинкой нащеке.
Получив деньги и заткнув страшную брешь, я вернулся в театр,без которого не мог жить уже, как морфинист безморфия.
С тяжелым сердцем я должен признаться, что все мои усилияпропали даром и даже, к моему ужасу, дали обратный результат. Скаждым днем буквально я нравился Ивану Васильевичу все меньше именьше.
Наивно было бы думать, что все расчеты я строил на желтыхботинках, в которых отражалось весеннее солнце. Нет! Здесь былахитрая, сложная комбинация, в которую входил, например, такой прием,как произнесение речей тихим голосом, глубоким и проникновенным
Голос этот соединялся со взглядом прямым, открытым, честным, с легкойулыбкой на губах (отнюдь не заискивающей, а простодушной). Я былидеально причесан, выбрит так, что при проведении тыльной сторонойкисти по щеке не чувствовалось ни малейшей шероховатости, япроизносил суждения краткие, умные, поражающие знанием вопроса, иничего не выходило. Первое время Иван Васильевич улыбался, встречаясьсо мною, потом он стал улыбаться все реже и реже и, наконец, совсемперестал улыбаться.
Тогда я стал производить репетиции по ночам. Я брал маленькоезеркало, садился перед ним, отражался в нем и начиналговорить:
- Иван Васильевич! Видите ли, в чем дело: кинжал, по моемумнению, применен быть не может...
И все шло как нельзя лучше. Порхала на губах пристойная искромная улыбка, глаза глядели из зеркала и прямо и умно, лоб былразглажен, пробор лежал как белая нить на черной голове
Все это не могло не дать результата, и, однако, выходило все хужеи хуже. Я выбивался изсил, худел и немного запустил наряд. Позволял себе надевать один итот же воротничок дважды.
Однажды ночью я решил произвести проверку и, не глядя взеркало, произнес свой монолог, а затем воровским движением скосилглаза и взглянул в зеркало для проверки иужаснулся.
Из зеркала глядело на меня лицо со сморщенным лбом,оскаленными зубами и глазами, в которых читалось не толькобеспокойство, но и задняя мысль. Я схватился за голову, понял, чтозеркало меня подвело и обмануло, и бросил его на пол. И из неговыскочил треугольный кусок. Скверная примета, говорят, еслиразобьется зеркало. Что же сказать о безумце, который сам разбиваетсвое зеркало?
- Дурак, дурак, - вскричал я, а так как я картавил, топоказалось мне, что в тишине ночи каркнула ворона, - значит, я былхорош, только пока смотрелся в зеркало, но стоило мне убрать его, какисчез контроль и лицо мое оказалось во власти моей мысли и... а, чертменя возьми!
Я не сомневаюсь в том, что записки мои, если только они