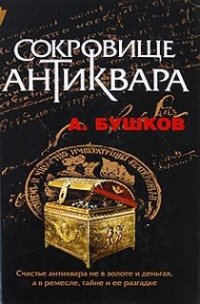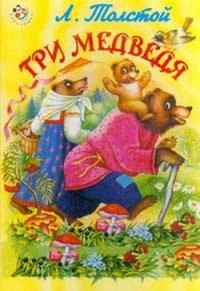Книга "Темные аллеи". Страница 27
внизу, в сизой морозной дымке, уже темнело и неподвижно и нежносияли огни только что зажженных фонарей.
У подъезда Лоскутной, откидывая волчью полость, Глебовприказал засыпанному снежной пылью Касаткину приехать за нимчерез час:
-- Отвезешь меня на Брестский.
-- Слушаю-с, -- ответил Касаткин. -- За границу, значит,отправляетесь.
-- За границу.
Круто поворачивая высокого старого рысака, скребяподрезами, Касаткин неодобрительно качнул шапкой:
-- Охота пуще неволи!
Большой и несколько запущенный вестибюль, просторный лифти пестроглазый, в ржавых веснушках, мальчик Вася, вежливостоявший в своем мундирчике, пока лифт медленно тянулся вверх,-- вдруг стало жалко покидать все это, давно знакомое,привычное. "И правда, зачем я еду?" Он посмотрел на себя взеркало: молод, бодр, сухо-породист, глаза блестят, иней накрасивых усах, хорошо и легко одет... в Ницце теперь чудесно,Генрих отличный товарищ... а главное, всегда кажется, чтогде-то там будет что-то особенно счастливое, какая-нибудьвстреча... остановишься где-нибудь в пути, -- кто тут жил передтобою, что висело и лежало в этом гардеробе, чьи это забытые вночном столике женские шпильки? Опять будет запах газа, кофе ипива на венском вокзале, ярлыки на бутылках австрийских иитальянских вин на столиках в солнечном вагоне-ресторане вснегах Земмеринга, лица и одежды европейских мужчин и женщин,наполняющих этот вагон к завтраку... Потом ночь, Италия..
Утром, по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей идымящей темноте туннелей и слабо горящие лампочки на потолкекупе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее намаленьких станциях в цветущих розах, возле млеющего в жаркомсолнце, как сплав драгоценных камней, заливчике... И он быстропошел по коврам теплых коридоров Лоскутной.
В номере было тоже тепло, приятно. В окна еще светилавечерняя заря, прозрачное вогнутое небо. Все было прибрано,чемоданы готовы. И опять стало немного грустно -- жаль покидатьпривычную комнату и всю московскую зимнюю жизнь, и Надю, иЛи...
Надя должна была вот-вот забежать проститься. Он поспешноспрятал в чемодан вино и фрукты, бросил пальто и шапку на диванза круглым столом и тотчас услыхал скорый стук в дверь. Неуспел отворить, как она вошла и обняла его, вся холодная инежно-душистая, в беличьей шубке, в беличьей шапочке, во всейсвежести своих шестнадцати лет, мороза, раскрасневшегося личикаи ярких зеленых глаз.
-- Едешь?
-- Еду, Надюша...
Она вздохнула и упала в кресло, расстегивая шубку.
-- Знаешь, я, слава Богу, ночью заболела... Ах, как бы яхотела проводить тебя на вокзал! Почему ты мне не позволяешь?
-- Надюша, ты же сама знаешь, что это невозможно, менябудут провожать совсем незнакомые тебе люди, ты будешьчувствовать себя лишней, одинокой...
-- А за то, чтобы поехать с тобой, я бы, кажется, жизньотдала!
-- А я? Но ты же знаешь, что это невозможно...
Он тесно сел к ней в кресло, целуя ее в теплую шейку, ипочувствовал на своей щеке ее слезы.
-- Надюша, что же это?
Она подняла лицо и с усилием улыбнулась:
-- Нет, нет, я не буду... Я не хочу по-женски стеснятьтебя, ты поэт, тебе необходима свобода.
-- Ты у меня умница, -- сказал он, умиляясь еесерьезностью и ее детским профилем -- чистотой, нежностью игорячим румянцем щеки, треугольным разрезом полураскрытых губ,вопрошающей невинностью поднятой ресницы в слезах. -- Ты у меняне такая, как другие женщины, ты сама поэтесса.
Она топнула в пол:
-- Не смей мне говорить о других женщинах!
И с умирающими глазами зашептала ему в ухо, лаская мехом идыханием:
-- На минутку... Нынче еще можно..
Подъезд Брестского вокзала светил в синей тьме морознойночи. Войдя в гулкий вокзал вслед за торопящимся носильщиком,он тотчас увидал Ли: тонкая, длинная, в прямойчерно-маслянистой каракулевой шубке и черном бархатном большомберете, из-под которого длинными завитками висели вдоль щекчерные букли, держа руки в большой каракулевой муфте, она злосмотрела на него своими страшными в своем великолепии чернымиглазами.
-- Все-таки уезжаешь, негодяй, -- безразлично сказала она,беря его под руку и спеша вместе с ним своими высокими серымиботиками вслед за носильщиком. -- Погоди, пожалеешь, другойтакой не наживешь, останешься со своей дурочкой поэтессой.
-- Эта дурочка еще совсем ребенок, Ли, -- как тебе не грехдумать Бог знает что.
-- Молчи. Я-то не дурочка. И если правда есть это Богзнает что, я тебя серной кислотой оболью.
Из-под готового поезда, сверху освещенного матовымиэлектрическими шарами, валил горячо шипящий серый пар, пахнущийкаучуком. Международный вагон выделялся своей желтоватойдеревянной обшивкой. Внутри, в его узком коридоре под краснымковром, в пестром блеске стен, обитых тисненой кожей, итолстых, зернистых дверных стекол, была уже заграница
Проводник-поляк в форменной коричневой куртке отворил дверь вмаленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью,мягко освещенное настольной лампочкой под шелковым краснымабажуром.
-- Какой ты счастливый! -- сказала Ли. -- Тут у тебя дажесобственный нужник есть. А рядом кто? Может, какая-нибудьстерва-спутница?
И она подергала дверь в соседнее купе:
-- Нет, тут заперто. Ну, счастлив твой Бог! Целуй меняскорей, сейчас будет третий звонок...
Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную,изысканно-худую, с длинными, острыми ногтями, и, извиваясь,порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусаято в губы, то в щеки и шепча:
-- Я тебя обожаю, обожаю, негодяй!
За черным окном огненной ведьмой неслись назад крупныеоранжевые искры, мелькали освещаемые поездом белые снежныескаты и черные чащи соснового леса, таинственные и угрюмые всвоей неподвижности, в загадочности своей зимней ночной жизни
Он закрыл под столиком раскаленную топку, опустил на холодноестекло плотную штору и постучал в дверь возле умывальника,соединявшую его и соседнее купе. Дверь оттуда отворилась, и,смеясь, вошла Генрих, очень высокая, в сером платье, сгреческой прической рыже-лимонных волос, с тонкими, как уангличанки, чертами лица, с живыми янтарно-коричневыми глазами.
-- Ну что, напрощался? Я все слышала. Мне больше всегопонравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой.
-- Начинаешь ревновать, Генрих?
-- Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, ядавно бы потребовала ее полной отставки.
-- Вот в том-то и дело, что опасна, попробуй-ка сразуотставить такую! А потом, ведь переношу же я твоего австрийца ито, что послезавтра ты будешь ночевать с ним.
-- Нет, ночевать я с ним не буду. Ты отлично знаешь, что яеду прежде всего затем, чтобы развязаться с ним.
-- Могла бы сделать это письменно. И отлично могла быехать прямо со мной.
Она вздохнула и села, поправляя блестящими пальцамиволосы, мягко касаясь их, положив нога на ногу в серых замшевыхтуфлях с серебряными пряжками:
-- Нет, мой друг, я хочу расстаться с ним так, чтобы иметьвозможность продолжать работать у него. Он человек расчетливыйи пойдет на мирный разрыв. Кого он найдет, кто бы мог, как я,снабжать его журнал всеми театральными, литературными,художественными скандалами Москвы и Петербурга? Кто будетпереводить и устраивать его гениальные новеллы? Нынчепятнадцатое. Ты, значит, будешь в Ницце восемнадцатого, а я непозднее двадцатого, двадцать первого. И довольно об этом, мыведь с тобой прежде всего добрые друзья и товарищи.
-- Товарищи... -- сказал он, радостно глядя на ее тонкоелицо в алых прозрачных пятнах на щеках. -- Конечно, лучшеготоварища, чем ты, Генрих, у меня никогда не будет. Только стобой одной мне всегда легко, свободно, можно говорить обо всем