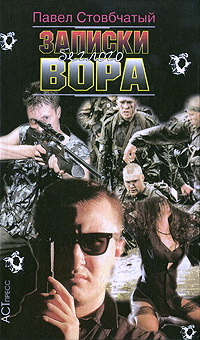Книга "Темные аллеи". Страница 28
действительно как с другом, но, знаешь, какая беда? Я всебольше влюбляюсь в тебя.
-- А где ты был вчера вечером?
-- Вечером? Дома.
-- А с кем? Ну да Бог с тобой. А ночью тебя видели в"Стрельне", ты был в какой-то большой компании в отдельномкабинете, с цыганами. Вот это уже дурной тон -- Степы, Груши,их роковые очи...
-- А венские пропойцы, вроде Пшибышевского?
-- Они, мой друг, случайность и совсем не по моей части
Она правда так хороша, как говорят, эта Маша?
-- Цыганщина тоже не по моей части, Генрих. А Маша...
-- Ну, ну, опиши мне ее.
-- Нет, вы положительно становитесь ревнивы, ЕленаГенриховна. Что ж тут описывать, не видала ты, что ли, цыганок?Очень худа и даже не хороша -- плоские дегтярные волосы,довольно грубое кофейное лицо, бессмысленные синеватые белки,лошадиные ключицы в каком-то желтом крупном ожерелье, плоскийживот... это-то, впрочем, очень хорошо вместе с длиннымшелковым платьем цвета золотистой луковой шелухи. И знаешь -как подберет на руки шаль из тяжелого старого шелка и пойдетпод бубны мелькать из-под подола маленькими башмачками, мотаядлинными серебряными серьгами, -- просто несчастье! Но идемобедать.
Она встала, легонько усмехнувшись:
-- Идем. Ты неисправим, друг мой. Но будем довольны тем,что Бог дает. Смотри, как у нас хорошо. Две чудесных комнатки!
-- И одна совсем лишняя...
Она накинула на волосы вязаный оренбургский платок, оннадел дорожную каскетку, и они, качаясь, пошли по бесконечнымтуннелям вагонов, переходя железные лязгающие мостики вхолодных, сквозящих и сыплющих снежной пылью гармониках междувагонами.
Он вернулся один, -- сидел в ресторане, курил, -- она ушлавперед. Когда вернулся, почувствовал в теплом купе счастьесовсем семейной ночи. Она откинула на постели угол одеяла ипростыни, вынула его ночное белье, поставила на столик вино,положила плетенную из дранок коробку с грушами и стояла, держашпильки в губах, подняв голые руки к волосам и выставив полныегруди, перед зеркалом над умывальником, уже в одной рубашке ина босу ногу в ночных туфлях, отороченных песцом. Талия у неебыла тонкая, бедра полновесные, щиколки легкие, точеные. Ондолго целовал ее стоя, потом они сели на постель и стали питьрейнское вино, опять целуясь холодными от вина губами.
-- А Ли? -- сказала она. -- А Маша?
Ночью, лежа с ней рядом в темноте, он говорил с шутливойгрустью:
-- Ax, Генрих, как люблю я вот такие вагонные ночи, этутемноту в мотающемся вагоне, мелькающие за шторой огни станции-- и вас, вас, "жены человеческие, сеть прельщения человеком"!Эта "сеть" нечто поистине неизъяснимое, Божественное идьявольское, и когда я пишу об этом, пытаюсь выразить его, меняупрекают в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души!Хорошо сказано в одной старинной книге: "Сочинитель имеет такоеже полное право быть смелым в своих словесных изображенияхлюбви и лиц ее, каковое во все времена предоставлено было вэтом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видятподлое даже в прекрасном или ужасном".
-- А у Ли, -- спросила Генрих, -- груди, конечно, острые,маленькие, торчащие в разные стороны? Верный признак истеричек.
-- Да.
-- Она глупа?
-- Нет... Впрочем, не знаю. Иногда как будто очень умна,разумна, проста, легка и весела, все схватывает с первогослова, а иногда несет такой высокопарный, пошлый или злой,запальчивый вздор, что я сижу и слушаю ее с напряжением итупостью идиота, как глухонемой... Но ты мне надоела с Ли.
-- Надоела, потому что не хочу больше быть товарищем тебе.
-- И я этого больше не хочу. И еще раз говорю: напишиэтому венскому прохвосту, что ты увидишься с ним на возвратномпути, а сейчас нездорова, должна отдохнуть после инфлуэнции вНицце. И поедем, не расставаясь, и не в Ниццу, а куда-нибудь вИталию...
-- А почему не в Ниццу?
-- Не знаю. Вдруг почему-то расхотелось. Главное -- поедемвместе!
-- Милый, мы об этом уже говорили. И почему Италия? Ты жеуверял меня, что возненавидел Италию.
-- Да, правда. Я зол на нее из-за наших эстетствующихболванов. "Я люблю во Флоренции только треченто..." А самродился в Белеве и во Флоренции был всего одну неделю за всюжизнь. Треченто, кватроченто... И я возненавидел всех этих ФраАнжелико, Гирляндайо, треченто, кватроченто и даже Беатриче исухоликого Данте в бабьем шлыке и лавровом венке... Ну, если нев Италию, то поедем куда-нибудь в Тироль, в Швейцарию, вообще вгоры, какую-нибудь каменную деревушку среди этих торчащих внебе пестрых от снега гранитных дьяволов... Представь себетолько: острый, сырой воздух, эти дикие каменные хижины, крутыекрыши, сбитые в кучу возле горбатого каменного моста, под нимбыстрый шум молочно-зеленой речки, бряканье колокольцев тесно,тесно идущего овечьего стада, тут же аптека и магазин сальпенштоками, страшно теплый отельчик с ветвистыми оленьимирогами над дверью, словно нарочно вырезанными из пемзы..
словом, дно ущелья, где тысячу лет живет эта чуждая всему миругорная дикость, родит, венчает, хоронит, и века веков высокоглядит из-за гранитов над нею какая-нибудь вечно белая гора,как исполинский мертвый ангел... А какие там девки, Генрих!Тугие, краснощекие, в черных корсажах, в красных шерстяныхчулках...
-- Ох, уж мне эти поэты! -- сказала она с ласковым зевком
-- И опять девки, девки... Нет, в деревушке холодно, милый. Иникаких девок я больше не желаю..
В Варшаве, под вечер, когда переезжали на Венский вокзал,дул навстречу мокрый ветер с редким и крупным холодным дождем,у морщинистого извозчика, сидевшего на козлах просторнойколяски и сердито гнавшего пару лошадей, трепались литовскиеусы и текло с кожаного картуза, улицы казались провинциальными.
На рассвете, подняв штору, он увидал бледную от жидкогоснега равнину, на которой кое-где краснели кирпичные домики
Тотчас после того остановились и довольно долго стояли набольшой станции, где, после России, все казалось очень мало, -вагончики на путях, узкие рельсы, железные столбики фонарей, -и всюду чернели вороха каменного угля; маленький солдат свинтовкой, в высоком кепи, усеченным конусом, и в короткоймышино-голубой шинели шел, переходя пути, от паровозного депо;по деревянной настилке под окнами ходил долговязый усатыйчеловек в клетчатой куртке с воротником из заячьего меха изеленой тирольской шляпе с пестрым перышком сзади. Генрихпроснулась и шепотом попросила опустить штору. Он опустил и легв ее тепло, под одеяло. Она положила голову на его плечо изаплакала.
-- Генрих, что ты? -- сказал он.
-- Не знаю, милый, -- ответила она тихо. -- Я на рассветечасто плачу. Проснешься, и так вдруг станет жалко себя... Черезнесколько часов ты уедешь, а я останусь одна, пойду в кафеждать своего австрийца... А вечером опять кафе и венгерскийоркестр, эти режущие душу скрипки...
-- Да, да, и пронзительные цимбалы... Вот я и говорю:пошли австрияка к черту и поедем дальше.
-- Нет, милый, нельзя. Чем же я буду жить, поссорившись сним? Но клянусь тебе, ничего у меня с ним не будет. Знаешь, впоследний раз, когда я уезжала из Вены, мы с ним уже выясняли,как говорится, отношения -- ночью, на улице, под газовымфонарем. И ты не можешь себе представить, какая ненависть былау него в лице! Лицо от газа и злобы бледно-зеленое, оливковое,фисташковое... Но, главное, как я могу теперь, после тебя,после этого купе, которое сделало нас уж такими близкими...
-- Слушай, правда?
Она прижала его к себе и стала целовать так крепко, что унего перехватывало дыхание.
-- Генрих, я не узнаю тебя.
-- И я себя. Но иди, иди ко мне.
-- Погоди...
-- Нет, нет, сию минуту!
-- Только одно слово: скажи точно, когда ты выедешь изВены?
-- Нынче вечером, нынче же вечером!
Поезд уже двигался, мимо двери мягко шли и звенели по