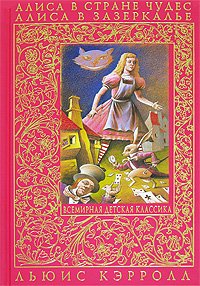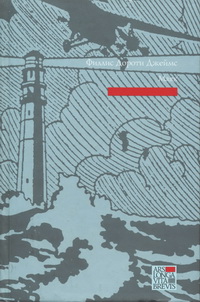Книга "Другие берега". Страница 14
более обильное падение освещенного снега, н тогда мойстрелянный выступ начинал подыматься, как воздушный шар
Экипажи проезжали редко; я переходил к третьему окну в фонаре,и вот извозчичьи сани останавливались прямо подо мной, имелькала неприличная лисья шапка Бэрнеса.
Предупреждая его набег, я спешил вернуться в классную иуже оттуда слышал, как по длинному коридору приближаютсяэнергичные шаги испытанного скорохода. Какой бы ни был мороз надворе, его лоб весь блестел перловым потом. Урок состоял в том,что в продолжение первой четверти он молча исправлял заданное впрошлый раз упражнение, вторую четверть посвящал диктовке,исправлял ее, а затем, лихорадочно сверив свои жилетные часы состенными, принимался писать быстрым, округлым почерком, сострашной энергией нажимая на плюющееся перо, очередное задание
Перед самым его уходом я выпрашивал у него любимую пытку. Держав своем похожем на окорок кулаке мою небольшую руку, он говориллимерик (нечто вроде пятистрочной частушки весьма строгойформы) о lady frorn Russia, которая кричала, screamed, когда еесдавливали, cruched her, и прелесть была в том, что приповторении слова "screamed" Бэрнес все крепче и крепче сжималмне руку, так что я никогда не выдерживал лимерика до конца
Вот перефразировка по-русски:
Есть странная дама из Кракова:
орет от пожатия всякого,
орет наперед и все время орет -
но орет не всегда
одинаково
6
Тихий, сутулый, бородатый, со старомодными манерами,мистер Куммингс, носивший заместо демисезонного пальтозеленовато-бурый плащ-лоден, был когда-то домашним учителемрисования моей матери и казался мне восьмидесятилетним старцем,хотя на самом деле ему не было и сорока пяти в те годы -1907--1908,-- когда он приходил давать мне уроки перспективы(небрежным жестом смахивая оттертыш гуттаперчи и необычайноэлегантно держа карандаш, который волшебными штрихами стягивалв одну бесконечно отдаленную точку даль дивной, но почему-тосовершенно безмебельной залы). В Россию он, кажется, попал вкачестве иностранного корреспондента-иллюстратора лондонскогоGraphic'a. Говорили, что его личная жизнь омрачена несчастьями
Грусть и кротость скрадывали скудость его таланта. Маленькиеего акварели-- полевые пейзажи, вечерняя река и томуподобное,-- приобретенные членами нашей семьи и домочадцами,прозябали по углам, оттесняемые все дальше и дальше, пока ихсовсем не скрывала холодная компания копенгагенских зверьковили новообрамленные снимки. После того что я научился тушеватьбок куба и при стирании резинкой не превращать с треском бумагув гармонику, симпатичный старец довольствовался тем, что простописал при мне свои райские яркие виды. Впоследствии, с десятилет и до пятнадцати, мне давали уроки другие художники: спервапорасплывчатее, "широкими мазками", воспроизводить в краскахкакие-то тут же кое-как им слепленные из пластилина фигурки; азатем--знаменитый Добужинский, который учил меня находитьсоотношения между тонкими ветвями голого дерева, извлекая изэтих соотношений важный, драгоценный узор, и который не тольковспоминался мне в зрелые годы с благодарностью, когдаприходилось детально рисовать, окунувшись в микроскоп,какую-нибудь еще никем не виданную структуру в органахбабочки,-- но внушил мне кое-какие правила равновесия ивзаимной гармонии, быть может пригодившиеся мне и влитературном моем сочинительстве. С чисто же эмоциональнойстороны, в смысле веселости красок, столь сродной детям,старый Куммингс пребывает у меня в красном углу памяти. Ещелучше моей матери умел он все это делать -- с чуднымпроворством навертывал на мокрую черную кисточку несколькокрасок сряду, под аккомпанемент быстрого дребезжания белыхэмалевых чашечек, в которых некоторые подушечки, красные,например, и желтые, были с глубокими выемками от частогопользования. Набрав разноцветного меда, кисточка переставалавитать и тыкаться, и двумя-тремя сочными обмазами пропитывалабристоль ровным слоем оранжевого неба, через которое, пока онобыло чуть влажно, прокладывалось длинное акулье облакофиолетовой черноты; "And that's ail, dearie,-- и это все,голубок мой, никакой мудрости тут нет".
Увы, однажды я попросил его нарисовать мне международныйэкспресс. Я наблюдал через его угловатое плечо за движеньямиего умелого карандаша, выводившего веерообразную снегочисткуили скотоловку, и передние слишком нарядные фонари такогопаровоза, который, пожалуй, мог быть куплен для Сибирскойжелезной дороги после того, что он пересек Америку через Ютахув шестидесятых годах. За этим паровиком последовало пятьвагонов, которые меня сильно разочаровали своей простотой ибедностью. Покончив с ними, он вернулся к локомотиву, тщательнооттенил обильный дым, валивший из преувеличенной трубы, склонилнабок голову и, полюбовавшись на свое произведение, протянулмне его, приятно смеясь. Я старался казаться очень довольным
Он забыл тендер.
Через четверть века мне довелось узнать две вещи: чтопокойный Бэрнес, который кроме диктанта да глупой частушки,казалось, не знал ничего, был весьма ценимым эдинбургскимизнатоками переводчиком русских стихов, тех стихов, которые ужев отрочестве стали моим алтарем, жизнью и безумием; и что мойкроткий Куммиигс, которому я щедро давал в современникисамых дремучих Рукавишниковых и дряхлого слугу Казимира сбакенбардами (того, который умел и любил откусывать хвостыноворожденным щенкам-фокстерьерам), счастливо женился dans laforce de l'вge (В расцвете сил (франц.)), т. e. в моихтеперешних летах, на молодой эстонке около того времени, когдая женился сам (в 1925 году). Эти вести меня странно потрясли,как будто жизнь покусилась на мои творческие права, на моюпечать и подпись, продлив свой извилистый ход за ту личную моюграницу, которую Мнемозина провела столь изящно, с такойэкономией средств
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
В холодной комнате, на руках у беллетриста, умираетМнемозина. Я не раз замечал, что стоит мне подаритьвымышленному герою живую мелочь из своего детства, и она уженачинает тускнеть и стираться в моей памяти. Благополучноперенесенные в рассказ целые дома рассыпаются в душе совершеннобеззвучно, как при взрыве в немом кинематографе. Таквкрапленный в начало "Защиты Лужина" образ моей французскойгувернантки погибает для меня в чужой среде, навязаннойсочинителем. Вот попытка спасти что еще осталось от этогообраза.
Мне было шесть лет, брату пять, когда, в 1905 году, к намприехала Mademoiselle. Показалась она мне огромной, и в самомделе она была очень толста. Вижу ее пышную прическу, снепризнанной сединой в темных волосах, три,-- и только три, нокакие! --морщины на суровом лбу, густые мужские брови надсерыми -- цвета ее же стальных часиков -- глазами за стекламипенсне в черной оправе; вижу ее толстые ноздри, зачаточные усыи ровную красноту большого лица, сгущающуюся, при наплывегнева, до багровости в окрестностях третьего и обширнейшего ееподбородка, который так величественно располагается прямо навысоком скате ее многосборчатой блузы. Вот, готовясь читатьнам, она придвигает к себе толчками, незаметно пробуя егопрочность, верандовое кресло и приступает к акту усадки: ходитстудень под нижнею челюстью, осмотрительно опускаетсячудовищный круп с тремя костяными пуговицами на боку, инапоследок она разом сдает всю свою колышимую массу камышовомусиденью, которое со страху разражается скрипом и треском.
Зима, среди которой она приехала к нам, была единственной,проведенной нами в деревне, и все было ново и весело -- иваленки, и снеговики, и гигантские синие сосульки, свисающие скрыши красного амбара, и запах мороза и смолы, и гул печек вкомнатах усадьбы, где в разных приятных занятиях тихо кончалосьбурное царство мисс Робинсон. Год, как известно, былреволюционный, с бунтами, надеждами, городскими забастовками, иотец правильно рассчитал, что семье будет покойнее в Выре
Правда, в окрестных деревнях были, как и везде, и хулиганы ипьяницы,-- а в следующем году даже так случилось, что зимниеозорники вломились в запертый дом и выкрали из киотов разные