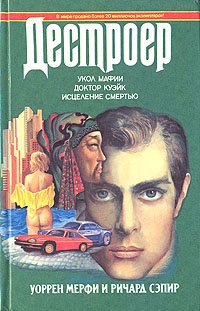Книга "Другие берега". Страница 28
с достоинством. Сидя очень прямо, он выехал на нашем "Бенце" вуниверситет, оставался там долго, вернулся в извозчичьих санях,весь сгорбленный, среди невероятной снежной бури, и в немомотчаянии поднялся к себе.
В конце своего пребывания у нас он женился и уехал всвадебное путешествие на Кавказ, в лермонтовские места, послечего вернулся к нам на одну зиму. В его отсутствие, летом1913-го года. Monsieur Noyer, коренастый швейцарец с пушистымиусами, читал нам "Cyrano de Bergerac", виртуозно меняя голоссообразно с персонажами. Когда он первый раз поехал с намиверхом, его лошадь споткнулась, и он через ее голову упал вкуст, как на старомодной карикатуре. Сервируя в теннисе, онсчитал нужным стоять на самой линии, широко расставив толстыеноги в смятых парусиновых штанах, затем как-то приседал иударял по подброшенному мячу со страшной силой, но ничего неполучалось,-- мяч попадал либо в сетку, либо в некошеное поле,за решетчатой оградой, сквозь которую упорным полетом,-- но обэтих белых бабочках я уже писал.
Весной 1914-го года, когда Ленский нас окончательнопокинул, к нам поступил тот Волгин, которого я уже упоминал,сын обедневшего симбирского помещика, молодой человекобворожительной наружности, с задушевными интонациями ипрекрасными манерами, но с душой пошляка и мерзавца. К этомувремени я уже не нуждался в каком-либо надзоре, учебной жепомощи он не мог мне оказать никакой, ибо был безнадежный неуч(проиграл мне, помню, великолепный кастет, побившись со мной обзаклад, что письмо Татьяны начинается так: "У видя почерк мой,вы верно удивитесь"), и все, что от него я получил (кромекастета), были рассказы, которыми я сначала заслушивался, о егопохождениях с женщинами--рассказы, вскоре сменившиесянеприличными сплетнями о нашей семье: он их добывал у одноймоложавой нашей родственницы, на которой впоследствии женился
При Советах этот бархатный Волгин был комиссаром -- и вскореустроился так, чтобы сбыть жену в Соловки. Не знаю, чемкончилась его карьера.
Но Ленского я не совсем потерял на вида. Езде когда он былс нами, он основал на где-то занятые деньги довольнофантастическое предприятие для скупки и эксплуатации разныхнеобыкновенных патентов. Эти изобретения он не то чтобы выдавалза свои, но усыновлял с такой нежностью, что отцовство егобросалось всем в глаза, хотя было основано на чувствах, а не нафактах. Однажды он с гордостью пригласил нас испробовать нанашем автомобиле "изобретенный" им новый тип мостовой,состоявшей из каких-то переплетенных металлических полосок; мыпопробовали--и лопнула шина. В Первую мировую войну он поставилармии пробную партию лошадиного корма в виде плоских серыхгалет; он всегда носил с собой образчик, небрежно грыз его ипредлагал грызть друзьям. От этих галет многие лошади тяжелоболели. Затем, в 1918-ом году, когда мы уже были в Крыму, оннам писал, предлагая щедрую денежную помощь. Не знаю, успел либы он ее оказать, ибо какое-то наследство, им полученное, онвложил в увеселительный парк на черноморском побережье, соскетинг-рингом, музыкой, каскадами, гирляндами красных изеленых лампочек, но тут накатились большевики и потушилииллюминацию, а Ленский бежал за границу и, в двадцатых годах,по слухам, жил аE1ольшой бедности на Ривьере, зарабатывая нажизнь тем, что расписывал морскими видами белые булыжники. Незнаю, что было с ним потом. Несмотря на некоторые своистранности, это был в сущности очень чистый, порядочныйчеловек, тяжеловесные "диктанты" которого я до сих пор помню:"Что за ложь, что в театре нет лож! Колокололитейщикипереколотили выкарабкавшихся выхухолей"
6
Когда воображаю чередование этих учителей, меня не столькопоражают те забавные перебои, которые они вносили в мою молодуюжизнь, сколько устойчивость и гармоническая полнота этой жизни
Я с удовлетворением отмечаю высшее достижение Мнемозины:мастерство, с которым она соединяет разрозненные части основноймелодии, собирая и стягивая ландышевые стебельки нот, повисшихтам и сям по всей черновой партитуре былого. И мне нравитсяпредставить себе, при громком ликующем разрешении собранныхзвуков, сначала какую-то солнечную пятнистость, а затем, впроясняющемся фокусе, праздничный стол, накрытый в аллее. Там,в самом устье ее, у песчаной площадки вырской усадьбы, пилишоколад в дни летних именин и рождений. На скатерти та же играсветотени, как и на лицах, под движущейся легендарной листвойлип, дубов и кленов, одновременно увеличенных до живописныхразмеров и уменьшенных до вместимости одного сердца, иуправляет всем праздником дух вечного возвращения, которыйпобуждает меня подбираться к этому столу (мы, призраки, такосторожны!) не со стороны дома, откуда сошлись к немуостальные, а извне, из глубины парка, точно мечта, для тогочтоб иметь право вернуться, должна подойти босиком, беззвучнымишагами блудного сына, изнемогающего от волнения. Сквозьтрепетную призму я различаю лица домочадцев и родственников,двигаются беззвучные уста, беззаботно произнося забытые речи
Мреет пар над шоколадом, синим блеском отливают тарталетки счерничным вареньем. Крылатое семя спускается как маленькийгеликоптер с дерева на скатерть, и через скатерть легла,бирюзовыми жилками внутренней стороны к переливчатому солнцу,голая рука девочки, лениво вытянувшаяся с раскрытой ладонью вожидании чего-то -- быть может, щипцов для орехов. На томместе, где сидит очередной гувернер, вижу лишь текучий,неясный, переменный образ, пульсирующий вместе с меняющимисятенями листвы. Вглядываюсь еще, и краски находят себеочертания, и очертания приходят в движение: точно по включенииволшебного тока, врываются звуки: голоса, говорящие вместе,треск расколотого ореха, полушаг небрежно переданных щипцов
Шумят на вечном вырском ветру старые деревья, громко поютптицы, а из-за реки доносится нестройный и восторженный гамкупающейся деревенской молодежи, как дикие звуки растущиховаций
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
Мне было одиннадцать лет, когда отец решил, что получаемоемною домашнее образование может с пользой пополняться школой. Вянваре 1911-го года я поступил в третий семестр ТенишевскогоУчилища: семестров было всего шестнадцать, так что третийсоответствовал первой половине второго класса гимназии.
Учебный год длился с начала сентября до первой трети мая,с обычными праздничными перерывами, во время которых гигантскаяелка касалась своей нежной звездой высокого, бледно-зеленымиоблаками расписанного, потолка в одной из нижних зал нашегодома, или же сваренное вкрутую яйцо опускалось с овальнымзвуком в дымящуюся фиолетовую хлябь.
Когда камердинер, Иван Первый (затем забранный в солдаты),или Иван Второй (додержавшийся до тех времен, когда я егопосылал с романтическими поручениями), будил меня, смуглая мглаеще стояла за окнами, жужжало в ушах, поташнивало, иэлектрический свет в спальне резал глаза мрачным йодистымблеском. За какие-нибудь полчаса надобно было подготовитьскрытый накануне от репетитора урок (о, счастливое время, когдая мог сфотографировать мозгом десять страниц в столько жеминут!), выкупаться, одеться, побрекфастать. Таким образом утрамои были скомканы, и пришлось временно отменить уроки бокса ифехтованья с удивительно гуттаперчевым французом Лустало. Онпродолжал приходить почти ежедневно, чтобы боксировать и битьсяна рапирах с моим отцом, и, проглотив чашку какао в столовой нанижнем этаже, я оттуда кидался, уже надевая пальто, череззеленую залу (где мандаринами и бором пахло так долго послеРождества), по направлению к "библиотечной", откуда доносилисьтопот и шарканье. Там я находил отца, высокого, плотносложенного человека, казавшегося еще крупнее в своем белом,стеганом тренировочном костюме и черной выпуклой решетчатоймаске: он необыкновенно мощно фехтовал, передвигаясь то вперед,то назад по наканифоленному линолеуму, и возгласы проворногоего противника--"Battez!", "Rompez!" -- смешивались с лязгомрапир. Попыхивая, отец снимал маску с потного розового лица,чтобы поцеловать меня. В этой части обширной библиотеки приятносовмещались науки и спорт: кожа переплетов и кожа боксовыхперчаток. Глубокие клубные кресла с толстыми сиденьями стоялитам и сям вдоль книгами выложенных стен. В одном концепоблескивали штанги выписанного из Англии пунчинг-бола,-- этичетыре штанги подпирали крышеобразную лакированную доску, скоторой висел большой, грушевидный, туго надутый кожаный мешок