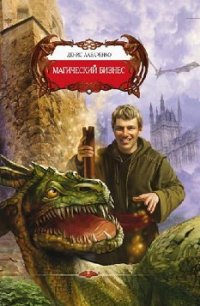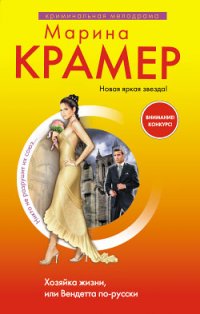Книга "Защита Лужина". Страница 3
вынимал сапоги из мешочка. Белобрысый мальчик второпях толкнулего, он посторонился и вдруг увидел отца. Отец улыбался ему,держа свой каракулевый колпак и ребром руки выдавливаянеобходимую бороздку. Лужин прищурился и отвернулся, словноотца не заметил. Присев на пол спиной к отцу, он завозился ссапогами; те, кто успел уже одеться, ступали через него, и он,после каждого толчка, все больше горбился, забивался в сумрак
Когда он наконец вышел,-- в длинном, сером пальто и каракулевомколпачке (который один и тот же детина постоянно с негосмахивал), отец уже стоял у ворот, в том конце двора, ивыжидательно смотрел в его сторону. Рядом стоял воспитатель и,когда серый резиновый мяч, которым играли в футбол, подкатилсяслучайно к его ногам, учитель словесности, инстинктивнопродолжая очаровательное предание, сделал вид, что хочет егопнуть, неловко потоптался, чуть не потерял галошу и рассмеялсяс большим добродушием. Отец поддержал его за локоть, и Лужинмладший, улучив мгновение, вернулся в переднюю, где уже былосовсем спокойно, и, скрытый вешалками, блаженно зевал швейцар
Через дверное стекло, между чугунных лучей звездообразнойрешетки, он увидел, как отец вдруг снял перчатку, быстропопрощался с воспитателем и исчез под воротами. Только тогда онвыполз опять и, осторожно обходя игравших, пробрался налево,под арку, где были сложены дрова. Там, подняв воротник, он селна поленья.
Так он просидел около двухсот пятидесяти больших перемен,до того года, когда он был увезен за границу. Иногдавоспитатель неожиданно появлялся из-за угла. "Что ж ты, Лужин,все сидишь кучей? Побегал бы с товарищами". Лужин вставал сдров, выходил из-под арки в четырехугольный задний двор, делалнесколько шагов, стараясь найти точку, равноотстоящую от техтрех его одноклассников, которые бывали особенно свирепы в этотчас, шарахался от мяча, пущенного чьим-то звучным пинком, и,удостоверившись, что воспитатель далеко, возвращался к дровам
Он избрал это место в первый же день, в тот темный день, когдаон почувствовал вокруг себя такую ненависть, такое глумливоелюбопытство, что глаза сами собой наливались горячей мутью, ивсе то, на что он глядел,-- по проклятой необходимости смотретьна что-нибудь,-- подвергалось замысловатым оптическимметаморфозам. Страница в голубую клетку застилалась туманом;белые цифры на черной доске то суживались, то расплывались; какбудто равномерно удаляясь, становился глуше и неразборчивееголос учителя, и сосед по парте, вкрадчивый изверг с пушком нащеках, тихо и удовлетворенно говорил: "сейчас расплачется". Ноон не расплакался ни разу, не расплакался даже тогда, когда вуборной, общими усилиями, пытались вогнуть его голову в низкуюраковину, где застыли желтые пузыри. "Господа,-- сказалвоспитатель на одном из первых уроков,-- ваш новый товарищ-сын писателя. Которого, если вы еще не читали, то прочитайте"
И крупными буквами он записал на доске, так нажимая, что из-подпальцев с хрустом крошился мел: "Приключения Антоши, изд
Сильвестрова". В течение двух-трех месяцев после этого Лужиназвали Антошей. Изверг с таинственным видом принес в класскнижку и во время урока исподтишка показывал ее другим,многознач8тельно косясь на Лужина,-- а когда урок кончился,стал читать вслух из середины, нарочито коверкая слова
Петрищев, смотревший через его плечо, хотел задержать страницу,и она порвалась. Кребс сказал скороговоркой: "Мой папа говорит,что писатель очень второго сорта". Громов крикнул: "ПустьАнтоша нам вслух почитает!" "А мы лучше каждому по кусочкудадим",-- со смаком сказал шут класса, после бурной схваткизавладевший красно-золотой нарядной книжкой. Страницырассыпались по всему классу. На одной была картинка,-- ясноокийгимназист на углу улицы кормит своим завтраком облезлую собаку
На следующий день Лужин нашел ее аккуратно прибитой кнопками квнутренней стороне партовой крышки.
Скоро, впрочем, его оставили в покое, только изредкавспыхивала глупая кличка, но так как он упорно на нее неотзывался, то и она, наконец, погасла. Лужина перестализамечать, с ним не говорили, и даже единственный тихоня вклассе (какой бывает в каждом классе, как бывает непременнотолстяк, силач, остряк) сторонился его, боясь разделить егопрезренное положение. Этот же тихоня, получивший лет шестьспустя Георгиевский крест за опаснейшую разведку, а затемпотерявший руку в пору гражданских войн, стараясь вспомнить (вдвадцатых годах сего века), каким был в школе Лужин, не могсебе его представить иначе, как со спины, то сидящего перед нимв классе, с растопыренными ушами, то уходящего в конец залы,подальше от шума, то уезжающего домой на извозчике,-- руки вкарманах, большой пегий ранец на спине, валит снег... Онстарался забежать вперед, заглянуть ему в лицо, но тот особыйснег забвения, снег безмолвный и обильный, сплошной белой мутьюзастилал воспоминание. И бывший тихоня, теперь беспокойныйэмигрант, говорил, глядя на портрет в газете: "Представьтесебе,-- совершенно не помню его лица... Ну, совершенно непомню..."
Но Лужин старший, около четырех посматривавший в окно,видел приближавшиеся сани и лицо сына, как бледное пятнышко
Сын обычно сразу входил к нему в кабинет, целовал воздух,прикоснувшись щекой к его щеке, и сразу поворачивался
"Постой,-- говорил отец,-- постой. Расскажи, что было сегодня
Вызывали?"
Он жадно смотрел на сына, который отклонял лицо, и емухотелось взять его за плечи, встряхнуть его, крепко поцеловатьв бледную щеку, в глаза, в нежный впалый висок. От маленькогоЛужина в ту первую школьную зиму трогательно пахло чеснокомиз-за впрыскиваний мышьяка, прописанных доктором. Платиновуюполоску ему сняли, но он, по привычке, продолжал скалиться,подворачивая верхнюю губу. Он был одет в серый английскийкостюмчик,-- хлястик сзади, короткие штаны с пуговками понижеколен. Он стоял у письменного стола, балансируя на одной ноге,и отец ничего не смел против его непроницаемой хмурости. Сынуходил, волоча ранец по ковру; Лужин старший облокачивался настол, где, в синих школьных тетрадках (прихоть, которую, бытьможет, оценит будущий биограф), он писал очередную повесть, иприслушивался к монологу в соседней столовой, к голосу жены,уговаривающей тишину выпить какао. "Страшная тишина,-- думалЛужин старший.-- Он нездоров, у него какая-то тяжелая душевнаяжизнь... пожалуй, не следовало отдавать в школу. Но зато нужноже ему привыкнуть к обществу других мальчуганов... Загадка,загадка..."
"Съешь хоть кекса",-- горестно продолжал голос застеной,-- и опять тишина. Но изредка происходило ужасное:вдруг, ни с того, ни с сего, раздавался другой голос, визжащийи хриплый, и, как от ураганного ветра, хлопала дверь. Тогда онвскакивал, вбегал в столовую, держа в руке перо, как стрелу
Жена дрожащими руками подбирала со скатерти опрокинутую чашку,блюдечко, смотрела, нет ли трещин. "Я его расспрашивала ошколе,-- говорила она, не глядя на мужа,-- он не хотелотвечать,-- а потом, вот... как бешеный..." Они обаприслушивались. Француженка уехала осенью в Париж, и теперь уженикто не знал, что он там делает у себя в комнате. Там сбоибыли белые, а повыше шла голубая полоса, по которой нарисованыбыли серые гуси и рыжие щенки. Гусь шел на щенка, и опять то жесамое, тридцать восемь раз вокруг всей комнаты. На этажеркестоял глобус и чучело белки, купленное когда-то на Вербе
Зеленый паровоз выглядывал из-под воланов кресла. Хорошая былакомната, светлая. Веселые обои, веселые вещи.
Были и книги. Книги, сочиненные отцом, в золото-красных,рельефных обложках, с надписью от руки на первой странице:"Горячо надеюсь, что мой сын всегда будет относиться к животными людям так, как Антоша",-- и большой восклицательный знак
Или: "Эту книгу я писал, думая о твоем будущем, мой сын". Этинадписи вызывали в нем смутный стыд за отца, а самые книжкибыли столь же скучны, как "Слепой музыкант" или "ФрегатПаллада". Большой том Пушкина, с портретом толстогубогокурчавого мальчика, не открывался никогда. Зато были две книги-- обе, подаренные ему тетей,-- которые он полюбил на всюжизнь, держал в памяти, словно под увеличительным стеклом, итак страстно пережил, что через двадцать лет, снова ихперечитав, он увидел в них только суховатый пересказ,сокращенное издание, как будто они отстали от тогонеповторимого, бессмертного образа, который они в нем оставили
Но не жажда дальних странствий заставляла его следовать попятам Филеаса Фогга и не ребячливая склонность к таинственнымприключениям влекла его в дом на Бэкер-стрит, где, впрыснувсебе кокаину, мечтательно играл на скрипке долговязый сыщик сорлиным профилем. Только гораздо позже он сак себе уяснил, чемтак волновали его эти две книги: правильно и безжалостноразвивающийся узор,-- Филеас, манекен в цилиндре, совершающийсвой сложный изящный путь с оправданными жертвами, то на слоне,