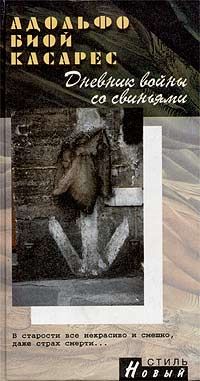Книга "Темные аллеи". Страница 5
низкой чернильной грядой леса, еще гуще и мрачней чернела туча,широко и зловеще вспыхивало красное пламя -- и Красильщиковшагнул в сенцы, нашарил в темноте дверь в горницу. Но горницабыла темна и тиха, только где-то постукивали рублевые часы настене. Он хлопнул дверью, повернул налево, нашарил и отворилдругую, в избу: опять никого, одни мухи сонно и недовольнозагудели в жаркой темноте на потолке.
-- Как подохли! -- вслух сказал он -- и тотчас услыхалскорый и певучий, полудетский голос соскользнувшей в темноте снар Степы, дочери хозяина:
-- Это вы, Василь Ликсеич? А я тут одна, стряпухапоругалась с палашей и ушла домой, а папаша взяли работника иуехали по делу в город, вряд ли и вернутся нынче... Напугаласьгрозы до смерти, а тут, слышу, кто-й-то подъехал, еще пущеиспугалась... Здравствуйте, извините меня, пожалуйста...
Красильщиков чиркнул спичкой, осветил ее черные глаза исмуглое личико:
-- Здравствуй, дурочка. Я тоже еду в город, да, вишь, чтоделается, заехал переждать... А ты, значит, думала, разбойникиподъехали?
Спичка стала догорать, но еще видно было это смущенноулыбающееся личико, коралловое ожерелье на шейке, маленькиегруди под желтеньким ситцевым платьем... Она была чуть не вдвоеменьше его ростом и казалась совсем девочкой.
-- Я сейчас лампу зажгу, -- поспешно заговорила она,смутясь еще больше от зоркого взгляда Красильщикова, и кинуласьк лампочке над столом. -- Вас сам Бог послал, что бы я тутделала одна, -- певуче говорила она, поднявшись на цыпочки инеловко вытягивая из зубчатой решетки лампочки, из ее жестяногокружка, стекло.
Красильщиков зажег другую спичку, глядя на ее вытянувшуюсяи изогнувшуюся фигурку.
-- Погоди, не надо, -- вдруг сказал он, бросая спичку, ивзял ее за талию. -- Постой, повернись-ка на минутку ко мне...
Она со страхом глянула на него через плечо, уронила руки иповернулась. Он притянул ее к себе, -- она не вырывалась,только дико и удивленно откинула голову назад. Он сверху, прямои твердо заглянул сквозь сумрак в глаза ей и засмеялся:
-- Еще пуще испугалась?
-- Василь Ликсеич... -- пробормотала она умоляюще ипотянулась из его рук.
-- Погоди. Разве я тебе не нравлюсь? Ведь знаю, всегдарада, когда я заезжаю.
-- Лучше вас на свете нету, -- выговорила она тихо игорячо.
-- Ну вот видишь...
Он длительно поцеловал ее в губы, и руки его скользнулиниже.
-- Василь Ликсеич... за-ради Христа... Вы забыли, вашалошадь так и осталась под крыльцом... папаша заедут... Ах, ненадо!
Через полчаса он вышел из избы, отвел лошадь во двор,поставил ее под навес, снял с нее уздечку, задал ей мокройнакошенной травы из телеги, стоявшей посреди двора, и вернулся,глядя на спокойные звезды в расчистившемся небе. В жаркуютемноту тихой избы все еще заглядывали с разных сторон слабые,далекие зарницы. Она лежала на нарах, вся сжавшись, уткнувголову в грудь, горячо наплакавшись от ужаса, восторга ивнезапности того, что случилось. Он поцеловал ее мокрую,соленую от слез щеку, лег навзничь и положил ее голову к себена плечо, правой рукой держа папиросу. Она лежала смирно,молча, он, куря, ласково и рассеянно приглаживал левой рукой ееволосы, щекотавшие ему подбородок... Потом она сразу заснула
Он лежал, глядя в темноту, и самодовольно усмехался: "А папашав город уехали..." Вот тебе и уехали! Скверно, он все сразупоймет -- такой сухенький и быстрый старичок в серенькойподдевочке, борода белоснежная, а густые брови еще совсемчерные, взгляд необыкновенно живой, говорит, когда пьян, безумолку, а все видит насквозь...
Он без сна слежал до того часа, когда темнота избы сталаслабо светлеть посередине, между потолком и полом. Повернувголову, он видел зеленовато белеющий за окнами восток и ужеразличал в сумраке угла EDад столом большой образ угодника вцерковном облачении, его поднятую благословляющую руку инепреклонно грозный взгляд. Он посмотрел на нее: лежит, все также свернувшись, поджав ноги, все забыла во сне! Милая и жалкаядевчонка...
Когда в небе стало совсем светло и петух на разные голосастал орать за стеной, он сделал движение подняться. Онавскочила и, полусидя боком, с расстегнутой грудью, соспутанными волосами, уставилась на него ничего не понимающимиглазами.
-- Степа, -- сказал он осторожно. -- Мне пора.
-- Уж едете? -- прошептала она бессмысленно.
И вдруг пришла в себя и крест-накрест ударила себя в грудьруками:
-- Куда ж вы едете? Как же я теперь буду без вас? Что жмне теперь делать?
-- Степа, я опять скоро приеду...
-- Да ведь папаша будут дома, -- как же я вас увижу! Я быв лес за шоссе пришла, да как же мне отлучиться из дому?
Он, стиснув зубы, опрокинул ее навзничь. Она широкоразбросила руки, воскликнула в сладком, как бы предсмертномотчаянии: "Ах!"
Потом он стоял перед нарами, уже в поддевке, в картузе, скнутом в руке, спиной к окнам, к густому блеску только чтопоказавшегося солнца, а она стояла на нарах на коленях и,рыдая, по-детски и некрасиво раскрывая рот, отрывистовыговаривала:
-- Василь Ликсеич... за-ради Христа... за-ради самого царянебесного, возьмите меня замуж! Я вам самой последней рабойбуду! У порога вашего буду спать -- возьмите! Я бы и так к вамушла, да кто ж меня так пустит! Василь Ликсеич...
-- Замолчи, -- строго сказал Красильщиков. -- На дняхприеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе. Слышала?
Она села на ноги, сразу оборвав рыдания, тупо раскрыламокрые лучистые глаза:
-- Правда?
-- Конечно, правда.
-- Мне на Крещенье уж шестнадцатый пошел, -- поспешносказала она.
-- Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно...
Воротясь домой, он тотчас стал собираться и к вечеру уехална тройке на железную дорогу. Через два дня он был уже вКисловодске.
5 октября 1938
МУЗА
Я был тогда уже не первой молодости, но вздумал учитьсяживописи, -- у меня всегда была страсть к ней, -- и, бросивсвое имение в Тамбовской губернии, провел зиму в Москве: бралуроки у одного бездарного, но довольно известного художника,неопрятного толстяка, отлично усвоившего себе все, чтополагается: длинные волосы, крупными сальными кудрями закинутыеназад, трубка в зубах, бархатная гранатовая куртка, на башмакахгрязно-серые гетры, -- я их особенно ненавидел, -- небрежностьв обращении, снисходительное поглядывание прищуренными глазамина работу ученика и это как бы про себя:
-- Занятно, занятно... Несомненные успехи...
Жил я на Арбате, рядом с рестораном "Прага", в номерах"Столица". Днем работал у художника и дома, вечера нередкопроводил в дешевых ресторанах с разными новыми знакомыми избогемы, и молодыми и потрепанными, но одинаково приверженнымибильярду и ракам с пивом... Неприятно и скучно я жил! Этотженоподобный, нечистоплотный художник, его "артистически"запущенная, заваленная всякой пыльной бутафорией мастерская,эта сумрачная "Столица"... В памяти осталось: непрестанно валитза окнами снег, глухо гремят, звонят по Арбату конки, вечеромкисло воняет пивом и газом в тускло освещенном ресторане... Непонимаю, почему я вел такое жалкое существование, -- был ятогда далеко не беден.
Но вот однажды в марте, когда я сидел дома, работаякарандашами, и в отворенные фортки двойных рам несло уже незимней сыростью мокрого снега и дождя, не по-зимнему цокали помостовой подковы и как будто музыкальнее звонили конки, кто-топостучал в дверь моей прихожей. Я крикнул: кто там? -- ноответа не последовало. Я подождал, опять крикнул -- опятьмолчание, потом новый стук. Я встал, отворил: у порога стоитвысокая девушка в серой зимней шляпке, в сером прямом пальто, в