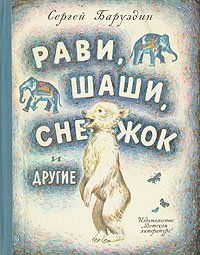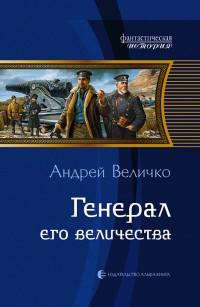Книга "Село Степанчиково и его обитатели". Страница 23
один раз срезался, Анфиса Петровна. Послушай и ты, Сергей: это поучительно даже. Стояли мы в Красногорске ( начал дядя, сияя от удовольствия, скороговоркой и торопясь, с бесчисленными вводными предложениями, что было с ним всегда, когда он начинал что-нибудь рассказыватьдля удовольствия публики). Только что пришли, в тот же вечер отправляюсьв спектакль. Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще сштаб-ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес иопустили ... То есть бестия был этот Зверков, и попить и в картины заняться, и не то чтобы пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. Но как запьет настоящим образом, так уж тут все забыл: где живет, вкаком государстве, как самого зовут? - словом, решительно все; но в сущности превосходнейший малый ... Ну-с, сижу я в театре. В антракте встаюи сталкиваюсь с прежним товарищем, Корноуховым ... Я вам скажу,единственный малый. Лет, правда, шесть мы уж не видались. Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, слышал недавно, - уже действительныйстатский; в статскую службу перешел, даE1ольших чинов дослужился ... Ну,разумеется, обрадовались. То да се. А рядом с нами в ложе сидят три дамы; та, которая слева, рожа, каких свет не производил ... После узнал:превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа ... Ну-с, вотя, как дурак, и бряк Корноухову: "Скажи, брат, не знаешь ли, что это зачучело выехала?" - "Которая это?" - "Да эта". - "Да это моя двоюроднаясестра". Тьфу, черт! Судите о моем положении! Я, чтоб поправиться: "Данет, говорю, не эта. Эк у тебя глаза! Вот та, которая оттуда сидит: ктоэта?" - "Это моя сестра". Тьфу ты пропасть! А сестра его, как нарочно,розанчик-розанчиком, премилушка; так разодета: брошки, перчаточки, браслетики, - словом сказать, сидит херувимчиком; после вышла замуж за превосходнейшего человека, Пыхтина; она с ним бежала, обвенчались без спросу; ну, а теперь все это как следует: и богато живут; отцы не нарадуются! ... Ну-с, вот. "Да нет! - кричу, а сам не знаю, куда провалиться, не эта!" - "Вот в середине-то которая?" - "Да, в середине". - "Ну, брат,это жена моя" ... Между нами: объедение, а не дамочка! то есть так бы ипроглотил ее всю целиком от удовольствия ... "Ну, говорю, видал ты когда-нибудь дурака? Так вот он перед тобой, и голова его тут же: руби, нежалей!" Смеется. После спектакля меня познакомил и, должно быть, рассказал, проказник. Что-то очень смеялись! И, признаюсь, никогда еще так весело не проводил время. Так вот как иногда, брат Фома, можно срезаться!Ха-ха-ха-ха!
Но напрасно смеялся бедный дядя; тщетно обводил он кругом свой веселый и добрый взгляд: мертвое молчание было ответом на его веселую историю. Фома Фомич сидел в мрачном безмолвии, а за ним и все; только Обноскин слегка улыбался, предвидя гонку, которую зададут дяде. Дядя сконфузился и покраснел. Того-то и желалось Фоме
- Кончили ль вы? - спросил он наконец с важностью, обращаясь к сконфуженному рассказчику
- Кончил, Фома
- И рады?
- То есть как это рад, Фома? - с тоскою отвечал бедный дядя
- Легче ли вам теперь? Довольны ли вы, что расстроили приятную литературную беседу друзей, прервав их и тем удовлетворив мелкое свое самолюбие?
- Да полно же, Фома! Я вас же всех хотел развеселить, а ты ..
- Развеселить? - вскричал Фома, вдруг необыкновенно разгорячась, - новы способны навести уныние, а не развеселить. Развеселить! Но знаете ли,что ваша история была почти безнравственна? Я уже не говорю: неприлична,- это само собой ... Вы объявили сейчас, с редкою грубостью чувств, чтосмеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, чтоона не имела чести вам понравиться. И нас же, нас хотели заставить смеяться, то есть поддакивать вам, поддакивать грубому и неприличному поступку, и все потому только, что вы хозяин этого дома! Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоблюдов, партнеров, можетедаже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущербпрямодушию и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин небудет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни прихлебателем вашим! В чем другом,а уж в этом я вас заверяю!.
- Эх, Фома! не понял ты меня, Фома!
- Нет, полковник, я вас давно раскусил, я вас насквозь понимаю! Васгложет самое неограниченное самолюбие; вы с претензиями на недосягаемуюостроту ума и забываете, что острота тупится о претензию. Вы ..
- Да полно же, Фома, ради бога! Постыдись хоть людей! ..
- Да ведь грустно же видеть все это, полковник, а видя, - невозможномолчать. Я беден, я проживаю у вашей родительницы. Пожалуй, еще подумают, что я льщу вам моим молчанием; а я не хочу, чтоб какой-нибудь молокосос мог принять меня за вашего прихлебателя! Может быть, я, входя сюдадавеча, даже нарочно усилил мою правдивую откровенность, нарочно принужден был дойти даже до грубости, именно потому, что вы сами ставите меняв такое положение. Вы слишком надменны со мной, полковник. Меня могутсчесть за вашего раба, за приживальщика. Ваше удовольствие унижать меняперед незнакомыми, тогда как я вам равен, слышите ли? равен во всех отношениях. Может быть, даже я вам делаю одолжение тем, что живу у вас, ане вы мне. Меня унижают; следственно, я сам должен себя хвалить - этоестественно! Я не могу не говорить, я должен говорить, должен немедленнопротестовать, и потому прямо и просто объявляю вам, что вы феноменальнозавистливы! Вы видите, например, что человек в простом, дружеском разговоре невольно выказал свои познания, начитанность, вкус: так вот уж вами досадно, вам и неймется: "Дай же и я свои познания и вкус выкажу!" Акакой у вас вкус, с позволения сказать? Вы в изящном смыслите столько извините меня, полковник, - сколько смыслит, например, хоть бык в говядине! Это резко, грубо - сознаюсь, по крайней мере, прямодушно и справедливо. Этого не услышите вы от ваших льстецов, полковник
- Эх, Фома!
- То-то: "эх, Фома"! Видно, правда не пуховик. Ну, хорошо; мы еще потом поговорим об этом, а теперь позвольте и мне немного повеселить публику. Не все же вам одним отличаться. Павел Семенович! видели вы это чудо морское в человеческом образе? Я уж давно его наблюдаю. Вглядитесь внего: ведь он съесть меня хочет, так-таки живьем, целиком!
Дело шло о Гавриле. Старый слуга стоял у дверей и действительно сприскорбием смотрел, как распекали его барина
- Хочу и я вас потешить спектаклем, Павел Семеныч. - Эй ты, ворона,пошел сюда! Да удостойте подвинуться поближе, Гаврила Игнатьич! - Это,вот видите ли, Павел Семеныч, Гаврила; за грубость и в наказание изучаетфранцузский диалект. Я, как Орфей, смягчаю здешние нравы, только не песнями, а французским диалектом. - Ну, француз, мусью шематон, - терпетьне может, когда говорят ему: мусью шематон, - знаешь урок?
- Вытвердил, - отвечал, повесив голову, Гаврила
- А парле-ву-франсе?
- Вуй, мусье, же-ле-парль-эн-пе ..
Не знаю, грустная ли фигура Гаврилы при произношении французской фразы была причиною, или предугадывалось всеми желание Фомы, чтоб все засмеялись, но только все так и покатились со смеху, лишь только Гаврилапошевелил языком. Даже генеральша изволила засмеяться. Анфиса Петровна,упав на спинку дивана, взвизгивала, закрываясь веером. Смешнее всего показалось то, что Гаврила, видя, во что превратился экзамен, не выдержал,плюнул и с укоризною произнес: "Вот до какого сраму дожил на старостилет!"
Фома Фомич встрепенулся
- Что? что ты сказал? Грубиянить вздумал?
- Нет. Фома Фомич, - с достоинством отвечал Гаврила, - не грубиянствослова мои, и не след мне, холопу, перед тобой, природным господином,грубиянить. Но всяк человек образ божий на себе носит, образ его и подобие. Мне уже шестьдесят третий год от роду. Отец мой Пугачева-извергапомнит, а деда моего вместе с барином, Матвеем Никитичем, - дай бог имцарство небесное - Пугач на одной осине повесил, за что родитель мой отпокойного барина, Афанасья Матвеича, не в пример другим был почтен: камардином служил и дворецким свою жизнь скончал. Я же, сударь, Фома Фомич, хотя и господский холоп, а такого сраму, как теперь, отродясь надсобой не видывал!