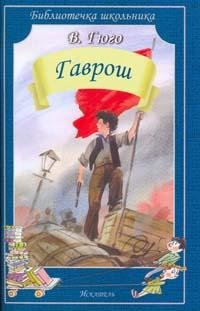Книга "Записки из мертвого дома". Страница 2
повестью, какими-то странными, ужасными воспоминаниями, набросанныминеровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. Я несколько разперечитывал эти отрывки и почти убедился, что они писаны в сумасшествии. Нокаторжные записки - "Сцены из Мертвого дома", - как называет он их самгде-то в своей рукописи, показались мне не совсем безынтересными
Совершенно новый мир, до сих пор неведомый, странность иных фактов,некоторые особенные заметки о погибшем народе увлекли меня, и я прочелкое-что с любопытством. Разумеется, я могу ошибаться. На пробу выбираюсначала две-три главы; пусть судит публика..
I
МЕРТВЫЙ ДОМ
Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного вала
Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет божий: не увидишь ли хотьчего-нибудь? - и только и увидишь, что краешек неба да высокий землянойвал, поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь, расхаживаютчасовые; и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а ты точно так жеподойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же вал, таких жечасовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, которое надострогом, а другого, далекого, вольного неба. Представьте себе большойдвор, шагов в двести длины и шагов в полтораста ширины, весь обнесенныйкругом, в виде неправильного шестиугольника, высоким тыном, то есть заборомиз высоких столбов (паль), врытых стойком глубоко в землю, крепкоприслоненных друг к другу ребрами, скрепленных поперечными планками исверху заостренных: вот наружная ограда острога. В одной из сторон оградывделаны крепкие ворота, всегда запертые, всегда день и ночь охраняемыечасовыми; их отпирали по требованию, для выпуска на работу. За этимиворотами был светлый, вольный мир, жили люди, как и все. Но по сю сторонуограды о том мире представляли себе, как о какой-то несбыточной сказке. Тутбыл свой особый мир, ни на что не похожий, тут были свои особые законы,свои костюмы, свои нравы и обычаи, и заживо мертвый дом, жизнь - как нигде,и люди особенные. Вот этот-то особенный уголок я и принимаюсь описывать
Как входите в ограду - видите внутри ее несколько зданий. По обеимсторонам широкого внутреннего двора тянутся два длинных одноэтажных сруба
Это казармы. Здесь живут арестанты, размещенные по разрядам. Потом, вглубине ограды, еще такой же сруб: это кухня, разделенная на две артели;далее еще строение, где под одной крышей помещаются погреба, амбары, сараи
Средина двора пустая и составляет ровную, довольно большую площадку. Здесьстроятся арестанты, происходит поверка и перекличка утром, в полдень ивечером, иногда же и еще по нескольку раз в день, - судя по мнительностикараульных и их уменью скоро считать. Кругом, между строениями и забором,остается, еще довольно большое пространство. Здесь, по задам строений, иныеиз заключенных, понелюдимее и помрачнее характером, любят ходить внерабочее время, закрытые от всех глаз, и думать свою думушку. Встречаясь сними во время этих прогулок, я любил всматриваться в их угрюмые, клейменыелица и угадывать, о чем они думают. Был один ссыльный, у которого любимымзанятием в свободное время, было считать пали. Их было тысячи полторы, и унего они были все на счету и на примете. Каждая паля означала у него деньBкаждый день он отсчитывал по одной пале и таким образом по оставшемусячислу несосчитанных паль мог наглядно видеть, сколько дней еще остается емупробыть в остроге до срока работы. Он был искренно рад, когда доканчивалкакую-нибудь сторону шестиугольника. Много лет приходилось еще емудожидаться; но в остроге было время научиться терпению. Я видел раз, какпрощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет инаконец выходивший на волю. Были люди, помнившие, как он вошел в острогпервый раз, молодой, беззаботный, не думавший ни о своем преступлении, ни освоем наказании. Он выходил седым стариком, с лицом угрюмым и грустным
Молча обошел он все наши шесть казарм. Входя в каждую казарму, он молилсяна образа и потом низко, в пояс, откланивался товарищам, прося не поминатьего лихом. Помню я тоже, как однажды одного арестанта, прежде зажиточногосибирского мужика, раз под вечер позвали к воротам. Полгода перед этимполучил он известие, что бывшая его жена вышла замуж, и крепко запечалился
Теперь она сама подъехала к острогу, вызвала его и подала ему подаяние. Онипоговорили минуты две, оба всплакнули и простились навеки. Я видел еголицо, когда он возвращался в казарму... Да, в этом месте можно былонаучиться терпению
Когда смеркалось, нас всех вводили в казармы, где и запирали на всюночь. Мне всегда было тяжело возвращаться со двора в нашу казарму. Это быладлинная, низкая и душная комната, тускло освещенная сальными свечами, стяжелым, удушающим запахом. Не понимаю теперь, как я выжил в ней десятьлет. На нарах у меня было три доски: это было все мое место. На этих женарах размещалось в одной нашей комнате человек тридцать народу. Зимойзапирали рано; часа четыре надо было ждать, пока все засыпали. А до того шум, гам, хохот, ругательства, звук цепей, чад и копоть, бритые головы,клейменые лица, лоскутные платья, все - обруганное, ошельмованное... да,живуч человек! Человек есть существо ко всему привыкающее, и, я думаю, этосамое лучшее его определение
Помещалось нас в остроге всего человек двести пятьдесят - цифра почтипостоянная. Одни приходили, другие кончали сроки и уходили, третьи умирали
И какого народу тут не было! Я думаю, каждая губерния, каждая полоса Россииимела тут своих представителей. Были и инородцы, было несколько ссыльныхдаже из кавказских горцев. Все это разделялось по степени преступлений, аследовательно, по числу лет, определенных за преступление. Надо полагать,что не было такого преступления, которое бы не имело здесь своегопредставителя. Главное основание всего острожного населения составлялиссыльнокаторжные разряда гражданского (сильнокаторжные, как наивнопроизносили сами арестанты). Это были преступники, совершенно лишенныевсяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным лицомдля вечного свидетельства об их отвержении. Они присылались в работу насроки от восьми до двенадцати лет и потом рассылались куда-нибудь посибирским волостям в поселенцы. Были преступники и военного разряда, нелишенные прав состояния, как вообще в русских военных арестантских ротах
Присылались они на короткие сроки; по окончании же их поворачивались тудаже, откуда пришли, в солдаты, в сибирские линейные батальоны. Многие из нихпочти тотчас же возвращались обратно в острог за вторичные важныепреступления, но уже не на короткие сроки, а на двадцать лет. Этот разрядназывался "всегдашним". Но "всегдашние" все еще не совершенно лишались всехправ состояния. Наконец, был еще один особый разряд самых страшныхпреступников, преимущественно военных, довольно многочисленный. Называлсяон "особым отделением". Со всей Руси присылались сюда преступники. Они самисчитали себя вечными и срока работ своих не знали. По закону им должно былоудвоять и утроять рабочие уроки. Содержались они при остроге впредь дооткрытия в Сибири самых тяжких каторжных работ. "Вам на срок, а нам вдольпо каторге", - говорили они другим заключенным. Я слышал, что разряд этотуничтожен. Кроме того, уничтожен при нашей крепости и гражданский порядок,а заведена одна общая военно-арестантская рота. Разумеется, с этим вместепеременилось и начальство. Я описываю, стало быть, старину, дела давноминувшие и прошедшие..
Давно уж это было; все это снится мне теперь, как во сне. Помню, как явошел в острог. Это было вечером, в декабре месяце. Уже смеркалось; народвозвращался с работы; готовились к поверке. Усатый унтер-офицер отворил мненаконец двери в этот странный дом, в котором я должен был пробыть стольколет, вынести столько таких ощущений, о которых, не испытав их на самомделе, я бы не мог иметь даже приблизительного понятия. Например, я быникогда не мог представить себе: что страшного и мучительного в том, что яво все десять лет моей каторги ни разу, ни одной минуты не буду один? Наработе всегда под конвоем, дома с двумястами товарищей и ни разу, ни разу один! Впрочем, к этому ли еще мне надо было привыкать!
Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу, разбойники и атаманыразбойников. Были просто мазурики и бродяги-промышленники по находнымденьгам или по столевской части. Были и такие, про которых трудно решить:за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у всякого была свояповесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. Вообще о быломсвоем они говорили мало, не любили рассказывать и, видимо, старались недумать о прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до тогоникогда не задумывающихся, что можно было биться об заклад, что никогдасовесть не сказала им никакого упрека. Но были и мрачные дни, почти всегдамолчаливые. Вообще жизнь свою редко кто рассказывал, да и любопытство былоне в моде, как-то не в обычае, не принято. Так разве, изредка, разговоритсякто-нибудь от безделья, а другой хладнокровно и мрачно слушает. Никто здесьникого не мог удивить. "Мы - народ грамотный! " - говорили они часто, скаким-то странным самодовольствием. Помню, как однажды один разбойник,хмельной (в каторге иногда можно было напиться), начал рассказывать, как онзарезал пятилетнего мальчика, как он обманул его сначала игрушкой, завелкуда-то в пустой сарай да там и зарезал. Вся казарма, доселе смеявшаяся егошуткам, закричала как один человек, и разбойник принужден был замолчать; неот негодования закричала казарма, а так, потому что не надо было про этоговорить, потому что говорить про это не принято. Замечу, кстати, что этотнарод был действительно грамотный и даже не в переносном, а в буквальномсмысле. Наверно, более половины из них умело читать и писать. В какомдругом месте, где русский народ собирается в больших местах, отделите вы отнего кучу в двести пятьдесят человек, из которых половина была быграмотных? Слышал я потом, кто-то стал выводить из подобных же данных, чтограмотность губит народ. Это ошибка: тут совсем другие причины; хотя и