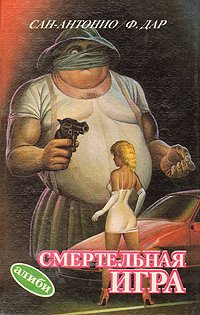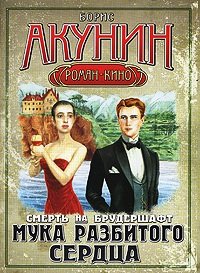Книга "Бледное пламя". Страница 48
первооткрывателя. Слишком много времени проводил он в библиотеке и слишкоммало средь отроков и юношей. Писателям следует видеть мир, срывать его фигии персики, а не сидеть, размышляя, в башне из желтой слоновой кости, -- что,к слову, было также и ошибкой Джона Шейда.
Не следует забывать, что Конмаль приступил к выполнению своейошеломительной задачи в ту пору, когда земблянам не был доступен ни единыйанглийский автор за вычетом Джейн де Фоун, десятитомной романистки, чьитворения, как ни странно, в Англии неизвестны, да Байрона в несколькихотрывках, переведенных с французского.
Мужчина крупный, неповоротливый и напрочь лишенный страстей, помимострасти к поэзии, он редко покидал свой хорошо протопленный замок спятьюдесятью тысячами коронованных книг, -- известно, что однажды он двагода провалялся в постели: читал, писал, а после, хорошо отдохнувший,навестил Лондон в первый и единственный раз, но погода там стояла туманная,языка он понять не сумел и потому еще на год вернулся в постель.
Английский язык так и оставался исключительной привилегией Конмаля, аего "Шакспер" пребывал неуязвимым в большую часть его долгой жизни. МаститыйДюк славился благородством своих творений, и мало кто набирался духуосведомиться об их точности. Я сам так и не осмелился их проверить. Одинбессердечный член Академии, решившийся на это, в итоге лишился места, да ещеполучил от Конмаля жестокий нагоняй в виде удивительного сонета, написанногопрямо на красочном, пусть и не совсем верном английском; этот сонетначинался так:
Нет, критик, я не раб! Пусть сам ты раб.
А мне нельзя. Шекспир не разрешает.
Пусть копиист аканты малевает, -
Мы с Мастером распишем архитрав
Строка 991: Подковы
Ни Шейд, ни я так и не сумели установить, откуда именно долетали к намэти звенящие звуки, -- какое из пяти семейств, обитавших за дорогой нанижних уступах нашего лесистого холма, через вечер на другой развлекалосьметанием подков, -- но томительный лязг и бряцание вносили приятномеланхолическую ноту в вечернее звучание Далвичского холма -- в переголосицуребятишек, в зазывные клики родителей, в упоенный лай приветствующегохозяина боксера, которого соседи в большинстве недолюбливали (онпереворачивал мусорные бачки).
Именно это месиво металлических мелодий и окружило меня в тот роковой,чересчур лучезарный вечер 21 июля, когда, с ревом примчавшись в моей мощноймашине из библиотеки, я сразу пошел взглянуть, что поделывает мой милыйсосед. Я только что встретил Сибил, катившую в город, и оттого питалкое-какие надежды на вечер. Право же, я очень напоминал запостившегося,опасливого любовника, пользующегося тем, что молодой муж остался дома один!
Сквозь деревья я различил белую рубаху и седую гриву Джона: он сидел усебя в "гнезде" (как сам его называл), на обвитом зеленью крыльце, иливеранде, описанной мной в примечаниях к строкам 47-48. Я не удержалсяи подобрался поближе -- о, легонько, почти на цыпочках, но тут разглядел,что он не пишет, а отдыхает, пожалуй, и уже не таясь, взошел на крыльцо
Локоть Джона упирался в стол, кулак подпирал висок, морщины разъехалисьвкривь и вкось, глаза туманные, влажные, -- на вид совершенная ведьма вподпитии. В знак приветствия он приподнял свободную руку, не переменяя позы,которая хоть и не была для меня непривычна, на этот раз поразила скореесиротливостью, чем задумчивостью.
-- Ну-с, -- сказал я, -- благосклонна ль к вам нынче муза?
-- Весьма благосклонна, -- ответил он, слабо кивая поникшей на рукуголовой. -- Замечательно благосклонна и ласкова. В сущности, вот здесь уменя (указывая на большой брюхатый конверт, лежавший рядышком на клеенке)почти готовый продукт. Осталось уладить кое-какие мелочи и (внезапно ахнувкулаком по столу), видит Бог, я это сделал.
Конверт, незапертый с одного конца, топорщился от натисканных карточек.
-- А где же миссус? -- спросил я (высохшими губами).
-- Помогите мне, Чарли, вылезти отсюда, -- попросил он, -- нога совсемонемела. Сибил обедает в клубе.
-- Имею предложение, -- сказал я, затрепетав. -- У меня есть домаполгаллона токайского. Готов разделить любимое вино с любимым поэтом
Давайте похрустим на обед грецкими орехами, съедим гроздь бананов и парочкукрупных томатов. А если вы согласитесь показать мне ваш "готовый продукт", явас попотчую чем-то еще: я вам открою, для чего я вам подсказал или, вернее,кто подсказал вам тему вашей поэмы.
-- Какую тему? -- рассеянно спросил Шейд, припадая к моей руке ипостепенно обретая подвижность онемелого члена.
-- Я говорю о нашей синей, вечно облачной Зембле, о красной шапочкеСтейнманна, о моторной лодке в приморской пещере и...
-- А, -- сказал Шейд. -- По-моему, я довольно давно уже разгадал вашсекрет. Что не помешает мне с наслаждением пить ваше вино. Ну хорошо, теперья управлюсь и сам.
Я отлично знал, что ему нипочем не устоять перед золотистой каплейтого-этого, особливо с тех пор, как в доме Шейдов установились суровыеограничения. Внутренне подскакивая от восторга, я перенял конверт, мешавшийему спускаться со ступенек крыльца, -- боком, как боязливый ребенок. Мыперешли лужок, мы перешли проулок. Трень-брень, играли подковы в ТайномЖилье. Я нес крупный конверт и ощупывал жесткие уголки стянутых круглойрезинкой карточных стопочек. Сколь несуразно привычно для нас волшебство, всилу которого несколько писанных знаков вмещают бессмертные вымыслы,замысловатые похожденья ума, новые миры, населенные живыми людьми,беседующими, плачущими, смеющимися. Мы с таким простодушием принимаем этодиво за должное, что в каком-то смысле самый акт животно привычноговосприятия отменяет вековые труды, историю постепенного совершенствованияпоэтического описания и построения, идущую от древесного человека кБраунингу, от пещерного -- к Китсу. Что как в один прекрасный день мы, мывсе, проснемся и обнаружим, что вовсе не умеем читать? Мне бы хотелось,чтобы у вас захватывало дух не только от того, что вы читаете, но и отсамого чуда чтения (так обыкновенно говорил я студентам). Сам я, немалопоплававший в синей магии, хоть и способен изобразить какую угодно прозу (ноне поэзию, как ни странно, -- рифмач из меня убогий), не отношу себя кистинным художникам, впрочем, с одной оговоркой: я обладаю способностью,присущей одним только истинным художникам: случайно наткнувшись на забытуюбабочку откровения, вдруг воспарить над обыденным и увидеть ткань этогомира, ее уток и основу. Набожно взвесил я на ладони то, что нес теперь слеваподмышкой, минутами ощущая немалое изумление, как если б услышал, чтосветляки передают сигналы от имени потерпевших крушение призраков, и этисигналы можно расшифровать, или что летучая мышь пишет разборчивым почеркомв обожженном и ободранном небе повесть об ужасных мучениях.
Я держал, прижимая к сердцу, всю мою Земблу
Строки 992-995: темная ванесса и т.д.
За минуту до смерти поэта, когда мы переходили из его владений в мои,продираясь сквозь бересклет и декоративные заросли, словно цветное пламявзвился и головокружительно понесся вкруг нас "красный адмирал" (смотрипримечание к строке 270). Мы уже видели прежде раз или два этот жеэкземпляр в то же время, на том же месте, -- там низкое солнце открыло влистве проход и заливало последним светом бурый песок, когда вечерние тениуже покрывали всю остальную дорожку. Глаз не поспевал за стремительнойбабочкой, она вспыхивала, исчезала и вспыхивала опять в солнечных лучах,почти пугая нас видимостью разумной игры, наконец разрешившейся тем, что онаопустилась на рукав моего довольного друга. Затем она снялась, и через мигмы увидели, как она резвится в зарослях лавра, в упоеньи легкомысленнойспешки, там и сям опадая на лоснящийся лист и съезжая его ложбинкой, будтомальчишка по перилам в день своего рождения. Вскоре прилив теней добрался долавров, и чудесное, бархатисто-пламенное создание растаяло в нем
Строки 998-999: садовник (тут он где-то рядом работает)
Где-то рядом! Множество раз поэт встречал моего садовника, и этууклончивость я могу отнести лишь к желанию (вообще заметному повсеместно вего обхождении с именами и проч.) придать некую поэтическую патину, налетудаленности, знакомым предметам и лицам, -- хоть и может статься, что внеровном свете он принял садовника за чужака, работающего на чужака. Этогодельного садовода я отыскал случайно в один пустой весенний день, когдатащился домой после сумбурного и неуютного приключения в крытомуниверситетском бассейне. Он стоял наверху зеленой лестницы, прислоненной кбольной ветви благодарного дерева в одной из славнейших аллей Аппалачия
Красная фланелевая рубаха лежала в траве. Mы разговорились, немногосмущаясь, он наверху, я внизу. Меня приятно удивило, что он способенсказать, откуда взялся каждый из его пациентов. Стояла весна, мы были одни впрелестной колоннаде деревьев, из конца в конец профотографированнойанглийскими посетителями. Я могу перечислить здесь лишь некоторые издеревьев: гордый дуб Юпитера и еще два -- британский, как грозовая туча, иузловатый средиземноморский; заслон ненастья (липа, line, а ныне -- lime);трон феникса (а ныне -- финиковая пальма); сосна и кедр (Cedrus), обаостровные; венецианский белый клен (Acer); две ивы -- зеленая, тоже изВенеции, и седолистая из Дании; вяз летний, чьи корявые персты плющ кольцамиобвил; и летняя смоква, чья тень зовет помедлить; и грустный кипарис шута изИллирии.
Два года он проработал санитаром в больнице для негров в Мэриленде
Нуждался. Хотел бы изучать садоводство, ботанику и французский язык ("чтобыв подлинниках читать Бодлера и Дюма"). Я пообещал ему денежную поддержку. Наследующий день он начал работать у меня. Он оказался ужасно милым итрогательным и все такое, но немножко слишком болтливым и совершеннейшимимпотентом, а это меня всегда расхолаживало. Вообще же малый он был крепкий