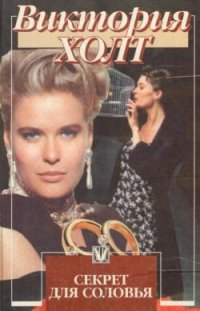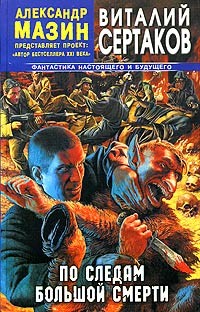Книга "Другие берега". Страница 27
сочетаются невыносимые прозаизмы с прелестнейшими словеснымимиражами. В ней семьсот с лишним строк, и это обилие стиховбыло распределено Ленским между всего лишь четырьмя стекляннымикартинками (неловким движением я разбил пятую перед началомпредставления). По соображениям пожарного порядка, выбрана быладовольно большая комната, в углу которой находились ванна икотел с водой. Как театральная зала, она оказалась мала, истулья пришлось тесно сдвинуть. Слева от меня сиделадесятилетняя непоседа с длинными бледно-золотистыми волосами инежным цветом лица, напоминающим розовый оттенок раковин; онасидела так близко, что я чувствовал верхнюю косточку ее бедра ипри каждом ее движении--она то теребила медальон, то продевалаладонь между затылком и дымом душистых волос, то со стукомсоединяла коленки под шуршащим шелком желтого чехла,просвечивающим сквозь кружево платья, и это возбуждало во мнеощущения, на которые Ленский не рассчитывал. Впрочем, она скоропересела. Справа от меня находился сын отцовского камердинера,совершенно неподвижный мальчик в матроске; он необыкновеннопоходил на Наследника, и по необыкновенному совпадению, страдалтем же трагическим недугом, гемофилией, так что по несколькораз в год синяя придворная карета привозила к нашему подъездузнаменитого доктора и подолгу ждала под косым снегом, которыйвсе шел да шел, и если зацепиться взглядом за снежинку,спускающуюся мимо окна, можно было разглядеть ее грубоватую,неправильную форму и даже колыхание при тихом полете.
Потух свет. Ленский тоном бытовика-резонера приступил кчтению:
Немного лет тому назад,
Там, где сливайся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь
Монастырь послушно появился на простыне и застыл там вкрасочном, но тупом оцепенении (хоть бы один стриж пронесся надним!) на протяжении двухсот строк, после чего был замененприблизительной грузинкой, обремененной этнографическимсосудом. Всякий раз как невидимый коллега убирал--безспеха--пластинку из прожектора, картина соскальзывала с экранаочень даже прытко, как если бы общее увлечение влияло не толькона изображение гор и грузин, но и на скорость их скольжения приизъятии. Этим ограничивалось волшебство фонаря. Деликатнымдвижением палочки Ленский обращал внимание недоброжелательныхзрителей на чрезвычайно вульгарные горы, даже не принадлежавшиесистеме пленительных лермонтовских высот, которые
...в час утренней зари Курилисякак алтари,
и когда молодой монах стал рассказывать другому затворникупостарше о своей борьбе с барсом, кто-то в публике ироническизарычал. Чем дальше трусил голос по мужским рифмам монотонногоямба, тем яснее становилось, что некоторая часть аудиториивтихомолку глумится над Ленским и что мне предстоит услышатьпотом немало насмешливых отзывов по поводу всей затеи. Мне былосовестно и ужасно жаль героического комментатора -- егоупорного бубнения, очерка острого профиля и толстого затылка,иногда вторгавшегося в область озаренного полотна, и особенноего нервной палочки, на которую, при неосторожном ееприближении к экрану, съезжали световые краски, притрагиваясь кее коню8ку с холодной игривостью кошачьей лапки. К концу сеансаскука разрослась донельзя; нерасторопный Борис Наумович долгоискал последнюю пластинку, смешав ее с "просмотренными", и покаЛенский терпеливо ждал в темноте, некоторые из мальчиков сталидовольно святотатственно отбрасывать на пустой светлый экранчерные тени поднятых рук, а спустя еще несколько секунд одиннеприятный озорник (неужели это был я -- невзирая на всючувствительность?) ухитрился показать силуэт ноги, что,конечно, сразу вызвало шумное подражание. Но вот--пластинканашлась, и вспыхнула на полотне,-- и неожиданно мне было пятьлет, а не двенадцать, ибо случайная комбинация красок мненапомнила, как во время одной из ранних заграничных поездокэкспресс, словно скрывшись от горной грозы, углубился вСен-Готардский туннель, а когда с облегченной переменой шумавышел оттуда: -
О, как сквозили в вышине
В зелено-розовом огне,
Где радуга задела ель,
Скала и на скале газель!
4
За этим представлением последовали другие, еще болееужасные. Меня томили, между прочим, смутные отзвуки некоторыхсемейных рассказов, относящихся к дедовским временам. Всередине восьмидесятых годов Иван Васильевич Рукавишников, ненайдя для сыновей школы по своему вкусу, нанял превосходныхпреподавателей и собрал с десяток мальчиков, которым онпредложил несколько лет бесплатного обучения в своем доме наАдмиралтейской набережной. Предприятие не имело большогоуспеха. Не всегда бывали сговорчивы те знакомые его, чьисыновья подходили по его мнению в товарищи его собственным,Василью (неврастенику, которого он тиранил) и Владимиру(даровитому отроку, любимцу семьи, которому предстояло вшестнадцать лет умереть от чахотки), а некоторые из техмальчиков, которых ему удалось набрать (подчас даже платяденьги небогатым родителям), вскоре оказались питомцаминеприемлемыми. С безотчетным отвращением я представлял себеИвана Васильевича упрямо обследующим столичные гимназии исвоими странными невеселыми глазами, столь знакомыми мне пофотографиям, выискивающим мальчиков, наиболее привлекательныхпо наружности среди первых учеников. По существурукавишниковские причуды ничем не походили на скромную затеюЛенского, но случайная мысленная ассоциация побудила менявоспрепятствовать тому, чтобы Ленский продолжал являться налюдях в глупом и навязчивом виде, и, после еще трехпредставлений ("Медный всадник", "Дон Кихот" и "Африка--страначудес"), мать сдалась на мои мольбы, и, заработав свои сто илидвести рублей, товарищ нашего добряка исчез со своим громоздкимаппаратом навеки.
Однако я помню не только убожество, аляповатость,желатиновую несъедобность в зрительном плане этих картин намокром полотне экрана (предполагалось, что влага делает ихглаже); я помню и то, как прелестны были самые пластинки, вневсякой мысли о фонаре и экране,-- если просто поднимешь двумяпальцами такое драгоценное стеклянное чудо на свет, чтобы вчастном порядке, и даже не совсем законно, в таинственнойоптической тишине, насладиться прозрачной миниатюрой, карманнымраем, удивительно ладными мирками, проникнутыми тихим светомчистейших красок. Гораздо позже я вновь открыл ту же отчетливуюи молчаливую красоту на круглом сияющем дне волшебнойшахты--лабораторного микроскопа. Арарат на стеклянной пластинкеуменьшением своим разжигал фантазию; орган насекомого подмикроскопом был увеличен ради холодного изучения. Мне думается,что в гамме мировых мер есть такая точка, где переходят одно вдругое воображение и знание, точка, которая достигаетсяуменьшением крупных вещей и увеличением малых: точка искусства.
Ленский был человек разносторонний, сведущий, умеющийразъяснить решительно все, что касалось школьных уроков; темболее нас поражали его постоянные университетские неудачи
Причиной их была вероятно совершенная его бездарность в областифинансовой и государственной, то есть именно в той области,которую он избрал для изучения. Помню, в какой лихорадке оннаходился накануне одного из самых важных экзаменов. Ябеспокоился не меньше его, и в порыве деятельного состраданияне мог удержаться от соблазна подслушать у двери, как по его жепросьбе мой отец проверяет в виде репетиции к экзамену егознание "Принципов политической экономии" Charles Gide. Листаякнигу, отец спрашивал, например: в чем заключается разницамежду банкнотами и бумажными деньгами?--и Ленский как-то ужаснопредприимчиво и даже радостно прочищал горло, а затемпогружался в полное молчание, как будто его не было. Посленескольких таких вопросов прекратилось и это его бойкоепокашливание, и паузы нарушались только легким постукиваниемотцовских ногтей по столу, и только раз с отчаянием и надеждойстрадалец воскликнул: "Владимир Дмитриевич, я протестую. Этоговопроса в книге нет". Но вопрос в книге был, И наконец отецзакрыл ее почти беззвучно и проговорил: "Голубчик, вы не знаетеничего". "Разрешите мне быть другого мнения",-- ответил Ленский