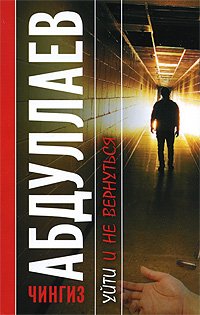Книга "Другие берега". Страница 18
Mademoiselle. Когда же той удавалось пересесть ее запраздничным столом, губы Mademoiselle от обиды складывались вдрожащую ироническую усмешку, и если при этом какой-нибудьпростодушный ее визави отзывался любезной улыбкой, то онабыстро мотала головой, будто выходя из глубокой задумчивости, ипроизносила: "Excusez-moi, je souriais а mes tristes pensйes"("Простите, я улыбалась своим грустным мыслям" (франц.)).
Природа постаралась ее наградить всем тем, что обостряетуязвимость. К концу ее пребывания у нас она стала глохнуть. Застолом, случалось, мы с братом замечали, как две крупных слезысползают по ее большим щекам. "Ничего, не обращайтевнимания",-- говорила она и продолжала есть, пока слезы незатопляли ее; тогда, с ужасным всхлипом, она вставала и чуть лине ощупью выбиралась из столовой. Добивались очень постепеннопустячной причины ее горя: она, например, все более убеждалась,что если общий разговор временами и велся по-французски, тоделалось это по сговору ради дьявольской забавы -- не давать ейнаправлять и украшать беседу. Бедняжка так торопилась влиться впонятную ей речь до возвращения разговора в русский хаос, чтонеизменно попадала впросак. "А как поживает ваш парламент
Monsieur Nabokoff?"--бодро выпаливала она, хотя уж много летпрошло со времени Первой Думы. А не то ей покажется, чторазговор коснулся музыки, и многозначительно она преподносила:"Помилуйте, и в тишине есть мелодия! Однажды, в дикойальпийской долине, я--вы не поверите, но это факт -слышала тишину". Невольным следствием таких реплик -особливо когда слабеющий слух подводил ее, и она отвечала намнимый вопрос -- была мучительная пауза, а вовсе не вспышкаблестящей, легкой causerie (Болтовни (франц.)). Междутем, сам по себе ее французский язык был так обаятелен! Неужтонельзя было забыть поверхностность ее образования, плоскостьсуждений, озлобленность нрава, когда эта жемчужная речь журчалаи переливалась, столь же лишенная истинной мысли и поэзии, какстишки ее любимцев Ламартина и Коппе! Настоящей французскойлитературе я приобщился не через нее, а через рано открытыемною книги в отцовской библиотеке; тем не менее хочуподчеркнуть, сколь многим обязан я ей, сколь возбудительно иплодотворно действовали на меня прозрачные звуки ее языка,подобного сверканью тех кристаллических солей, коипрописываются для очищения крови. Потому-то так грустно думатьтеперь, как страдала она, зная, что никем не ценится соловьиныйголос, исходящий из ее слоновьего тела. Она зажилась у нас, всенадеясь, что чудом превратится в некую grande prйcieuse(Хозяйку светского салона (франц.)), царящую в золоченойгостиной и блеском ума чарующей поэтов, вельмож,путешественников.
Она бы продолжала ждать и надеяться, если бы не Ленский,розовый, полнолицый студент с рыжеватой бородкой, голубойобритой головою и добрыми близорукими глазами, который вдесятых годах жил у нас в качестве репетитора. У негобыло несколько предшевствеников, ни одного из них Mademoiselleне любила, но про Ленского говорила, что это le comble (Хозяйкусветского салона (франц.)) -- дальше идти некуда. Он былдовольно неотесанный одессит с чистыми идеалами и, преклоняясьперед моим отцом, откровенно осуждал кое-что в нашем обиходе,как, например, лакеев в синих ливреях, реоAционных приживалок,"снобичность" некоторых забав и, увы, французский язык,неуместный по его мнению в доме у демократа. Mademoiselle,которой за все время их совместного прозябания ни разу непришло в голову, что Ленский не знает ни слова по-французски,решила, что если он на все ей отвечает мычанием (чудак, занеимением других прикрас, старался по крайней мере егогерманизировать), то делает он это с намерением ее грубооскорбить и осадить при всех -- ведь никто за нее незаступится. Это были незабываемые сцены, и постоянноеповторение их не делало чести уму ни той, ни другой стороне
Сладчайшим тоном, но уже со зловещим подрагиванием губ
Mademoiselle просила соседа передать ей хлеб, а сосед кивал,бурча что-то вроде "их денке зо аух", и спокойно продолжалхлебать суп; при этом в Надежде Ильиничне, не жаловавшейMademoiselle за сожжение Москвы, а Ленского за распятие Христа,злорадство боролось с сочувствием. Наконец, преувеличенношироким движением, Mademoiselle ныряла через тарелку Ленскогопо направлению к корзинке с французской булкой и втягиваласьобратно через него же, крикнув "Merci, Monsieur!" с такойсокрушительной интонацией, что пушком поросшие уши Ленскогостановились алее герани. "Скот? Наглец! Нигилист!"--всхлипывая,жаловалась она моему брату, смирно сидевшему на ее постели,-которая давно переехала из смежной с нами комнаты в еесобственную.
В нашем петербургском особняке был небольшой водяной лифт,который всползал по бархатистому каналу на третий этаж вдольмедленно спускавшихся подтеков и трещин на какой-то внутреннейжелтоватой стене, странно разнящейся от гранита фронтона, ноочень похожей на другой, тоже наш, дом со стороны двора, гдебыли службы и сдавались, кажется, какие-то конторы, судя позеленым стеклянным 'колпакам ламп, горящих среди ватной темнотыв тех скучных потусторонних окнах. Оскорбительно намекая на еетяжесть, этот лифт часто бастовал, и Mademoiselle бывалапринуждена, со многими астматическими паузами, подниматься полестнице. К ней навстречу по этим ступеням тяжеловато, но резвосбегал, бывало, Ленский, и в течение двух зим она доказывала,что, проходя, он непременно толкнет ее, пихнет, собьет с ног,растопчет ее безжизненное тело. Все чаще и чаще уходила онаиз-за стола,-- и какой-нибудь пломбир или профит-роль, окотором она бы пожалела, дипломатично посылался ей вдогонку. Изглубины как бы все удалявшейся комнаты своей она писала материписьма на шестнадцати страницах, и мать спешила наверх изаставала ее трагически укладывающей чемодан в присутствииудрученного Сережи. И однажды ей дали доуложиться
8
Она переехала куда-то, мы еще иногда виделись, а в самомначале Первой мировой войны она вернулась в Швейцарию
Советская революция переместила нас на полтора года в Крым, аоттуда мы навсегда уехали за границу. Я учился в Англии, вКембриджском Университете, и как-то во время зимних каникул, в1921 г., что ли, поехал с товарищем в Швейцарию на лыжный спорт-- и на обратном пути, в Лозанне, посетил Mademoiselle.
Ещ° потолстевшая, совсем поседевшая и почти совершенноглухая, она встретила меня бурными изъявлениями любви. Ейдолжно быть было лет семьдесят -- возраст свой она всегдаскрывала с какой-то страстью и могла бы сказать "l'вge est monseul trйsor" ("Годы -- мое единственное сокровище"(франц,.)). Изображение Шильонского замка заменилааляповатая тройка, выжженная на крышке лаковой шкатулки. Она стаким же жаром вспоминала свою жизнь в России, как если бы этобыла ее утерянная родина. И то сказать: в Лозанне проживалацелая колония таких бывших гувернанток, ушедших на покой; онижались друг к дружке и ревниво щеголяли воспоминаниями опрошлом, образуя странно ностальгический островок среди чуждойстихии: "Аргентинцы изнасиловали всех наших молодыхдевушек",--уверяла все еще красноречивая Mademoiselle. Лучшимее другом была теперь сухая старушка, похожая на мумиюподростка, бывшая гувернантка моей матери, M-lle Golay, котораятоже вернулась в Швейцарию, причем они не разговаривали друг сдругом, пока обе жили у нас. Человек всегда чувствует себя домав своем прошлом, чем отчасти и объясняется как бы посмертнаялюбовь этих бедных созданий к далекой и между нами говорядовольно страшной стране, которой они по-настоящему не знали ив которой никакого счастья не нашли.
Так как беседа мучительно осложнялась глухотойMademoiselle, мы с приятелем решили принести ей в тот же деньаппарат, на который ей явно не хватало средств. Сначала онанеправильно приладила сложный инструмент, что впрочем непомешало ей сразу же поднять на меня влажный взгляд, посильноизображавший удивление и восторг. Она клялась, что слышит дажемой шепот. Между тем этого не могло быть, ибо, озадаченный иогорченный поведением машинки, я не сказал ни слова, а если бызаговорил, то предложил бы ей поблагодарить моего товарища,заплатившего за аппарат. Быть может, она слышала то самоемолчание, к которому прислушивалась когда-то в уединеннойдолине: тогда она себя обманывала, теперь меня.
Прежде, чем покинуть Лозанну, я вышел пройтись вокругозера холодным, туманным вечером. В одном месте особенно унылыйфонарь разбавлял мглу, и, проходя через его тусклую ауру, туманобращался в бисер дождя. Вспомнилось: "II pleut toujours enSuisse" ( "В Швейцарии всегда идет дождь" (франц.)) -