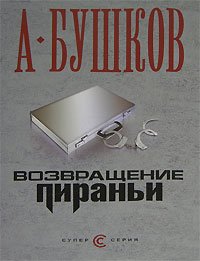Книга "Записки из мертвого дома". Страница 25
жизнь, пока не найдут себе дела вполне по желанию; тут уж им и голованипочем. Удивлялся я иногда, как это такой человек, который зарезал своегоначальника за побои, так беспрекословно ложится у нас под розги. Его иногдаи секли, когда он попадался с вином. Как и все каторжные без ремесла, ониногда пускался проносить вино. Но он и под розги ложился как будто ссобственного согласия, то есть как будто сознавал, что за дело; в противномслучае ни за что бы не лег, хоть убей. Дивился я на него тоже, когда он,несмотря на видимую ко мне привязанность, обкрадывал меня. Находило на негоэто как-то полосами. Это он украл у меня Библию, которую я ему дал толькодонести из одного места в другое. Дорога была в несколько шагов, но онуспел найти по дороге покупщика, продал ее и тотчас же пропил деньги
Верно, уж очень ему пить захотелось, а уж что очень захотелось, то должнобыть исполнено. Вот такой-то режет человека за четвертак, чтоб за этотчетвертак выпить косушку, хотя в другое время пропустить мимо с сотнеютысяч. Вечером он мне сам и объявил о покраже, только без всякого смущенияи рп1каянья, совершенно равнодушно, как о самом обыкновенном приключении. Ябыло пробовал хорошенько его побранить; да и жалко мне было мою Библию. Онслушал, не раздражаясь, даже очень смирно; соглашался, что Библия оченьполезная книга, искренно жалел, что ее у меня теперь нет, но вовсе несожалел о том, что украл ее; он глядел с такою самоуверенностью, что ятотчас же и перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно рассудив,что ведь нельзя же без этого, чтоб не изругать его за такой поступок, такуж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает; но что в сущности всеэто вздор, такой вздор, что серьезному человеку и говорить-то было бысовестно. Мне кажется, он вообще считал меня каким-то ребенком, чуть немладенцем, не понимающим самых простых вещей на свете. Если, например, ясам с ним об чем-нибудь заговаривал, кроме наук и книжек, то он, правда,мне отвечал, но как будто только из учтивости, ограничиваясь самымикороткими ответами. Часто я задавал себе вопрос: что ему в этих книжныхзнаниях, о которых он меня обыкновенно расспрашивает? Случалось, что вовремя этих разговоров я нет-нет да и посмотрю на него сбоку: уж не смеетсяли он надо мной? Но нет; обыкновенно он слушал серьезно, внимательно, хотя,впрочем, не очень, и это последнее обстоятельство мне иногда досаждало
Вопросы задавал он точно, определительно, но как-то не очень дивилсяполученным от меня сведениям и принимал их даже рассеянно... Казалось мнееще, что про меня он решил, не ломая долго головы, что со мною нельзяговорить, как с другими людьми, что, кроме разговора о книжках, я ни о чемне пойму и даже не способен понять, так что и беспокоить меня нечего
Я уверен, что он даже любил меня, и это меня очень поражало. Считал лион меня недоросшим, неполным человеком, чувствовал ли ко мне то особогорода сострадание, которое инстинктивно ощущает всякое сильное существо кдругому слабейшему, признав меня за такое... не знаю. И хоть все это немешало ему меня обворовывать, но, я уверен, и обворовывая, он жалел меня
"Эх, дескать! - думал он, может быть, запуская руку в мое добро, - что жэто за человек, который и за добро-то свое постоять не может!" Но за это-тоон, кажется, и любил меня. Он мне сам сказал один раз, как-то нечаянно, чтоя уже "слишком доброй души человек" и "уж так вы просты, так просты, чтодаже жалость берет. Только вы, Александр Петрович, не примите в обиду, прибавил он через минуту, - я ведь так от души сказал"
С такими людьми случается иногда в жизни, что они вдруг резко и крупнопроявляются и обозначаются в минуты какого-нибудь крутого, поголовногодействия или переворота и таким образом разом попадают на свою полнуюдеятельность. Они не люди слова и не могут быть зачинщиками и главнымипредводителями дела; но они главные исполнители его и первые начинают
Начинают просто, без особых возгласов, но зато первые перескакивают черезглавное препятствие, не задумавшись, без страха, идя прямо на все ножи, - ивсе бросаются за ними и идут слепо, идут до самой последней стены, гдеобыкновенно и кладут свои головы. Я не верю, чтоб Петров хорошо кончил; онв какую-нибудь одну минуту все разом кончит, и если не пропал еще до сихпор, значит, случай его не пришел. Кто знает, впрочем? Может, и доживет доседых волос и преспокойно умрет от старости, без цели слоняясь туда и сюда
Но, мне кажется, М. был прав, говоря, что это был самый решительный человекиз всей каторги
VIII
РЕШИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ЛУЧКА
Насчет решительных трудно сказать; в каторге, как и везде, их былодовольно мало. С виду, пожалуй, и страшный человек; сообразишь, бывало, чтопро него рассказывают, и даже сторонишься от него. Какое-то безотчетноечувство заставляло меня даже обходить этих людей сначала. Потом я во многомизменился в моем взгляде даже на самых страшных убийц. Иной и не убил, дастрашнее другого, который по шести убийствам пришел. Об иных жепреступлениях трудно было составить даже самое первоначальное понятие: дотого в совершении их было много странного. Я именно потому говорю, что унас в простонародье иные убийства происходят от самых удивительных причин
Существует, например, и даже очень часто, такой тип убийцы: живет этотчеловек тихо и смирно. Доля горькая - терпит. Положим, он мужик, дворовыйчеловек, мещанин, солдат. Вдруг что-нибудь у него сорвалось; он не выдержали пырнул ножом своего врага и притеснителя. Тут-то и начинается странность:на время человек вдруг выскакивает из мерки. Первого он зарезалпритеснителя, врага; это хоть и преступно, но понятно; тут повод был; нопотом уж он режет и не врагов, режет первого встречного и поперечного,режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четки, или просто: "Прочьс дороги, не попадайся, я иду!" Точно опьянеет человек, точно в горячечномбреду. Точно, перескочив раз через заветную для него черту, он уже начинаетлюбоваться на то, что нет для него больше ничего святого; точно подмываетего перескочить разом через всякую законность и власть и насладиться самойразнузданной и беспредельной свободой, насладиться этим замиранием сердцаот ужаса, которого невозможно, чтоб он сам к себе не чувствовал. Знает он ктому же, что ждет его страшная казнь. Все это может быть похоже на тоощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая подногами, так что уж сам наконец рад бы броситься вниз головою: поскорей, дадело с концом! И случается это все даже с самыми смирными и неприметнымидотоле людьми. Иные из них в этом чаду даже рисуются собой. Чем забитее былон прежде, тем сильнее подмывает его теперь пощеголять, задать страху. Оннаслаждается этим страхом, любит самое отвращение, которое возбуждает вдругих. Он напускает на себя какую-то отчаянность, и такой "отчаянный"иногда сам уж поскорее ждет наказания, ждет, чтоб порешили его, потому чтосамому становится наконец тяжело носить на себе эту напускную отчаянность
Любопытно, что большею частью все это настроение, весь этот напуск,продолжается ровно вплоть до эшафота, а потом как отрезало: точно и в самомделе этот срок какой-то форменный, как будто назначенный заранееопределенными для того правилами. Тут человек вдруг смиряется,стушевывается, в тряпку какую-то обращается. На эшафоте нюнит - просит ународа прощения. Приходит в острог, и смотришь: такой слюнявый, такойсопливый, забитый даже, так что даже удивляешься на него: "Да неужели этотот самый, который зарезал пять-шесть человек?"
Конечно, иные в остроге не сразу смиряются. Все еще сохраняетсякакой-то форс, какая-то хвастливость: вот, дескать, я ведь не то, что выдумаете; я "по шести душам". Но кончает тем, что все-таки смиряется. Иногдатолько потешит себя, вспоминая свой удалой размах, свой кутеж, бывший раз вего жизни, когда он был "отчаянным", и очень любит, если только найдетпростячка, с приличной важностью перед ним поломаться, похвастаться ирассказать ему свои подвиги, не показывая, впрочем, и вида, что ему самомурассказать хочется. Вот, дескать, какой я был человек!
И с какими утонченностями наблюдается эта самолюбивая осторожность,как лениво небрежен бывает иногда такой рассказ! Какое изученное фатствопроявляется в тоне, в каждом словечке рассказчика. И где этот народвыучился!
Раз в эти первые дни, в один длинный вечер, праздно и тоскливо лежа нанарах, я прослушал один из таких рассказов и по неопытности принялрассказчика за какого-то колоссального, страшного злодея, за неслыханныйжелезный характер, тогда как в это же время чуть не подшучивал надПетровым. Темой рассказа было, как он, Лука Кузьмич, не для чего иного, какединственно для одного своего удовольствия, уложил одного майора. Этот ЛукаКузьмич был тот самый маленький, тоненький, с востреньким носиком,молоденький арестантик нашей казармы, из хохлов, о котором уже как-то иупоминал я. Был он в сущности русский, а только родился на юге, кажется,дворовым человеком. В нем действительно было что-то вострое, заносчивое:"мала птичка, да ноготок востер". Но арестанты инстинктивно раскусываютчеловека. Его очень немного уважали, или, как говорят в каторге, "ему оченьнемного уважали". Он был ужасно самолюбив. Сидел он в этот вечер на нарах ишил рубашку. Шитье белья было его ремеслом. Подле него сидел тупой иограниченный парень, но добрый и ласковый, плотный и высокий, его сосед понарам, арестант Кобылин. Лучка, по соседству, часто с ним ссорился и вообщеобращался свысока, насмешливо и деспотически, чего Кобылин отчасти и незамечал по своему простодушию. Он вязал шерстяной чулок и равнодушно слушалЛучку. Тот рассказывал довольно громко и явственно. Ему хотелось, чтобы всеего слушали, хотя, напротив, и старался делать вид, что рассказывает одномуКобылину
- Это, брат, пересылали меня из нашего места, - начал он, ковыряяиглой, - в Ч-в, по бродяжеству значит