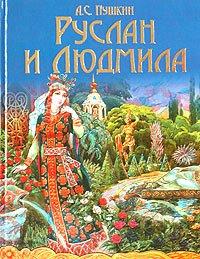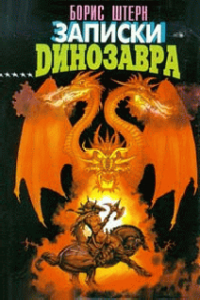Книга "Дар". Страница 47
от строк, из которых составляются страницы произведений, восхищающих нас"
Мало того: "Довольно взглянуть на мелочные изделия парижской промышленности,на изящную бронзу, фарфор, деревянные изделия, чтобы понять, как невозможнопровести теперь границу между художественным и нехудожественнымпроизведением" (вот эта изящная бронза многое и объясняет).
Как и слова, вещи имеют свои падежи. Чернышевский всг видел вименительном. Между тем всякое подлинно-новое веяние есть ход коня, переменатеней, сдвиг, смещающий зеркало. Человека серьезного, степенного, уважающегопросвещение, искусства, ремесла, накопившего множество ценностей в областимышления, -- быть может выказавшего вполне передовую разборчивость во времяих накопления, но теперь вовсе не желающего, чтобы они вдруг подверглисьпересмотру, такого человека иррациональная новизна сердит пуще темнотыветхого невежества. Так розовый плащ торреадорши на картинке Манэ большераздражал буржуазного быка, чем если бы он был красным. Так Чернышевский,который, подобно большинству революционеров, был совершенный буржуа в своиххудожественных и научных вкусах, приходил в бешенство от "возведения сапог вквадраты", от "извлечения кубических корней из голенищ". "Лобачевского зналався Казань, -- писал он из Сибири сыновьям, -- вся Казань единодушноговорила, что он круглый дурак... Что такое "кривизна луча", или "кривоепространство"? Что такое "геометрия без аксиомы параллельных линий"? Можноли писать по-русски без глаголов? Можно -- для шутки. Шелест, робкоедыханье, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известнымпоэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохоталидо боли в боках" (Фета, как и Толстого, он не терпел; в 56 году, любезничаяс Тургеневым -- ради "Современника", -- он ему писал, "что никакие "Юности",ни даже стихи Фета... не могут настолько опошлить публику, чтобы она немогла..." -- следует грубый комплимент).
Когда однажды, в 55 году, расписавшись о Пушкине, он захотел датьпример "бессмысленного сочетания слов", то привел мимоходом тут жевыдуманное "синий звук", -- на свою голову напророчив пробивший черезполвека блоковский "звонко-синий час". "Научный анализ показывает вздорностьтаких сочетаний", -- писал он, -- не зная о физиологическом факте"окрашенного слуха". "Не всг ли равно, -- спрашивал он (у радостносоглашавшегося с ним бахмучанского или новомиргородского читателя), -голубоперая щука или щука с голубым пером (конечно второе, крикнули бы мы,-- так оно выделяется лучше, в профиль!), ибо настоящему мыслителю некогдазаниматься этим, особенно если он проводит на народной площади большевремени, чем в своей рабочей комнате". Другое дело -- "общий план". Любовь кобщему (к энциклопедии), презрительная ненависть к особому (к монографии) изаставляли его упрекать Дарвина в недельности, Уоллеса в нелепости ("...всеэти ученые специальности от изучения крылышек бабочек до изучения наречийкафрского языка"). У самого Чернышевского был в этом смысле какой-то опасныйразмах, какое-то разудалое и самоуверенное "всг сойдет", бросающеесомнительную тень на достоинства как раз специальных его трудов. "Общийинтерес" он понимал, однако, по-своему: исходил из мысли, что больше всегочитателя интересует "производительность". Разбирая в 55 году какой-тожурнал, он хвалит в нем статьи "Термометрическое состояние земли" и "Русскиекаменноугольные бассейны", решительно бракуя, как слишком специальную, туединственную, которую хотелось бы прочесть: "Географическое распространениеверблюда".
Чрезвычайно знаменательна в отношении ко всему этому попыткаЧернышевского доказать ("Современник" 56 г.), что трехдольный размер стихаязыку нашему свойственнее, чем двухдольный. Первый (кроме того случая, когдаиз него составляется благородный, "священный", а потому ненавистныйгекзаметр) казался Чернышевскому естественнее, "здоровее" двухдольного, какплохому наезднику галоп кажется "проще" рыси. Суть, впрочем, была не в этом,а как раз в общем правиле, под которое он подводил всг и всех. Сбитый столку ритмической эмансипацией широко рокочущего некрасовского стиха икольцовским элементарным анапестом ("мужичек"), Чернышевский учуял втрехдольнике что-то демократическое, милое сер4цу, "свободное", но идидактическое, в отличие от аристократизма и антологичности ямба: онполагал, что убеждать следует именно анапестом. Однако и этого еще мало: внекрасовском трехдольнике особенно часто слова, попадая на холостую частьстопы, теряют индивидуальность, зато усиливается их сборный ритм: частноеприносится в жерту целому. В небольшом стихотворении, например (Надрываетсясердце от муки...) вот сколько слов неударяемых: "плохо", "внемля","чувству", "в стаде", "птицы", "грохот", -- при чем слова всг знатные, а нечернь предлогов или союзов, безмолвствующая иногда и в двухдольнике. Всгсказанное нигде, конечно, не выражено самим Чернышевским, но любопытно, чтов собственных стихах, производившихся им в сибирские ночи, в том страшномтрехдольнике, который в самой своей аляповатости отзывает безумием,Чернышевский, словно пародируя и до абсурда доводя некрасовский прием, побилрекорд неударяемости: "в стране гор, в стране роз, равнин полночи дочь"(стихи к жене, 75 год). Повторяем: вся эта тяга к стиху, созданному пообразу и подобию определенных социально-экономических богов, была вЧернышевском бессознательна, но только тягу эту уяснив, можно понятьистинную подоплеку его странной теории. При этом он не разумел настоящейскрипичной сущности анапеста; не разумел и ямба, самого гибкого из всехразмеров как раз в силу превращения ударений в удаления, в те ритмическиеудаления от метра, которые Чернышевскому казались беззаконными посеминарской памяти; не понимал, наконец, ритма русской прозы; естественнопоэтому, что самый метод, им примененный, тут же отомстил ему: в приведенныхим отрывках прозы он разделил количество слогов на количество ударений иполучил тройку, а не двойку, которую дескать получил бы, будь двухдольникприличнее русскому языку; но он не учел главного: пэонов! ибо как раз вприведенных отрывках целые куски фраз звучат на подобие белого стиха, белойкости среди размеров, т. е. именно ямба!
Боюсь, что сапожник, заглянувший в мастерскую к Апеллесу, был скверныйсапожник.
Так ли уж всг обстоит благополучно с точки зрения математики в тех егоспециальных экономических трудах, разбор коих требует от исследователя почтисверхестественной любознательности? Так ли глубоки его комментарии к Миллю(в которых он стремился перестроить некоторые теории "сообразно потребностямнового простонародного элемента мысли и жизни"). Все ли сапоги сшиты померке? Или одно лишь стариковское кокетство толкает его вспоминать промахи влогарифмических расчетах о действии земледельческих усовершенствований наурожай хлеба? Грустно, грустно всг это. Нам вообще кажется, что материалистыего типа впадали в роковую ошибку: пренебрегая свойствами самой вещи, онивсе применяли свой сугубо-вещественный метод лишь к отношениям междупредметами, а не к предмету самому, т. е. были по существу наивнейшимиметафизиками как раз тогда, когда более всего хотели стоять на земле.
Некогда, в юности, у него было одно несчастное утро: зашел знакомыйбукинист-ходебщик, старый носатый Василий Трофимович, согбенный как Баба-Ягапод грузом огромного холщевого мешка, полного запрещенных и полузапрещенныхкниг. Чужих языков не зная, едва умея складывать латинские литеры и дико,по-мужицки жирно, произнося заглавия, он чутьем угадывал степеньвозмутительности того или другого немца. В то утро он продал НиколаюГавриловичу (оба присели на корточки подле груды книг) неразрезанного ещеФейербаха.
В те годы Андрея Ивановича Фейербаха предпочли Егору Федоровичу Гегелю
Homo feuerbachi есть мыслящая мышца. Андрей Иванович находил, что человекотличается от обезьяны только своей точкой зрения; вряд ли, однако, онизучил обезьян. За ним полвека спустя Ленин опровергал теорию, что "земляесть сочетание человеческих ощущений" тем, что "земля существовала дочеловека", а к его торговому объявлению: "мы теперь превращаем кантовскуюнепознаваемую вещь в себе в вещь для себя посредством органической химии"серьезно добавлял, что "раз существовал ализарин в каменном угле без нашеговедома, то существуют вещи независимо от нашего познания". Совершенно так жеЧернышевский объяснял: "мы видим дерево; другой человек смотрит на этот жепредмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точьтакое-же. Итак мы все видим предметы, как они действительно существуют". Вовсем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у"материалистов" аппелирование к дереву особенно забавно тем, что все ониплохо знают природу, в частности деревья. Тот осязаемый предмет, который"действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем" ("Антропологическийпринцип в философии"), им просто неведом. Вот какая страшная отвлеченностьполучилась в конечном счете из "материализма"! Чернышевский не отличал плугаот сохи; путал пиво с мадерой; не мог назвать ни одного лесного цветка,кроме дикой розы; но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял"общей мыслью", добавляя с убеждением невежды, что "они (цветы сибирскойтайги) всг те же самые, какие цветут по всей России". Какое то тайноевозмездие было в том, что он, строивший свою философию на познании мира,которого сам не познал, теперь очутился, наг и одинок, среди дремучей,своеобразно роскошной, до конца еще не описанной природы северо-восточнойСибири: стихийная, мифологическая кара, не входившая в расчет егочеловеческих судей.
Еще недавно запах гоголевского Петрушки объясняли тем, что всгсуществующее разумно. Но время задушевного русского гегелианства прошло
Властители дум понять не могли живительную истину Гегеля: истину, нестоячую, как мелкая вода, а, как кровь, струящуюся в самом процессепознания. Простак Фейербах был Чернышевскому больше по вкусу. Есть однаковсегда опасность, что из космического или умозрительного одна буква выпадет;этой опасности Чернышевский не избежал, когда в статье "Общинное владение"стал оперировать соблазнительной гегелевской триадой, давая такие примеры,как: газообразность мира -- тезис, а мягкость мозга -- синтез, или, ещеглупее: дубина, превращающаяся в штуцер. "В триаде, говорит Страннолюбский,кроется смутный образ окружности, -- правящей всем мыслимым бытием, котороев ней заключено безвыходно. Это -- карусель истины, ибо истина всегдакруглая; следовательно в развитии форм жизни возможна некотораяизвинительная кривизна: горб истины; но не более"