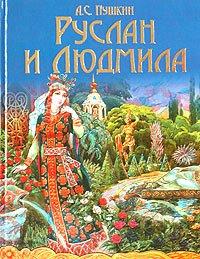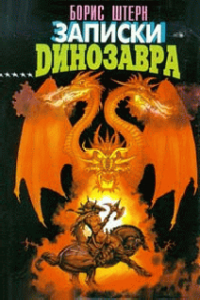Книга "Дар". Страница 58
превратить ее в песнь), то, ее не коря, рассуди -- ведь ты сам виноват, чтородился, с теплым, любящим сердцем в груди. Если ж ты не захочешь сознатьсядаже в столь очевидной вине..." (вот только эта строка звенитпо-настоящему).
Совместное житье отца и сына было совместным адом. Чернышевский доводилСашу до мучительных бессониц нескончаемыми своими наставлениями (как"материалист" он имел изуверскую смелость полагать, что главная причинасашиного расстройства -- "жалкое материальное положение"), и сам такстрадал, как даже не страдал в Сибири. Обоим вздохнулось легче, когда зимойСаша уехал, -- сперва, кажется, в Гейдельберг с семьей ученика, потом вПетербург "по надобности посоветоваться с медиками". Мелкие, ложно-смешныенесчастья продолжали сыпаться на него. Так, из письма матери (88 год)узнаем, что покамест "Саша изволил прогуливаться, дом, в котором он жил,сгорел", при чем сгорело и всг, что было у него; и уже совершенным бобылемон переселился на дачу Страннолюбского (отца критика?).
В 89 году Чернышевский получил разрешение переехать в Саратов. Какие бычувства он при этом ни испытывал, они всг равно были отравлены несноснойсемейной заботой: Саша, у которого всегда была болезненная страсть квыставкам, вдруг предпринял сумасброднейшую и счастливейшую поездку напресловутую парижскую Exposition universelle, -- сначала застряв в Берлине,куда пришлось ему выслать деньги на имя консула, с просьбой отправить егоназад; какое! получив деньги, Саша добрался до Парижа, нагляделся "на дивноеколесо, на гигантскую ажурную башню" -- и опять очутился без гроша.
Лихорадочная работа Чернышевского над глыбами Вебера (превращавшая егомозг в каторжный завод и являвшаяся в сущности величайшей насмешкой надчеловеческой мыслью) не покрывала неожиданных расходов, -- и день-деньскойдиктуя, диктуя, диктуя, он чувствовал, что больше не может -- что историюмира не может больше обращать в рубли, -- а тут еще мучил панический страх,что из Парижа Саша нагрянет в Саратов. 11-го октября он написал сыну, чтомать ему посылает деньги на возвращение в Петербург, и -- в который раз -посоветовал ему взять любую службу и исполнять всг, что начальство велитделать: "Твои невежественные, нелепые назидания начальству не могут бытьтерпимы никакими начальниками" (так завершилась "тема прописей"). Продолжаядергаться и бормотать, он запечатал конверт и сам пошел на вокзал письмоотправить. По городу кружил жестокий ветер, который на первом же углу ипродул легко одетого, торопящегося, сердитого старичка. На другой день,несмотря на жар, он перевел восемнадцать страниц убористого шрифта; 13-гохотел продолжать, но его уговорили бросить; 14-го у него начался бред:"Инга, инк... (вздох) совсем я расстроен... С новой строки... Если быпослать в Шлезвиг-Гольштейн тысяч тридцать шведского войска, оно легкоразобьет все силы датчан и овладеет... всеми островами, кроме развеКопенгагена, который будет защищаться упорно, но в ноябре, в скобкахпоставьте девятого числа, сдался и Копенгаген -- точка с запятой; шведыпревратили всг население датской столицы в светлое серебро, отослали вЕгипет энергических людей патриотических партий... Да-с, да-с, так где жэто... С новой строки...". Так он бредил долго, от воображаемого Вебераперескакивая на какие-то воображаемые свои мемуары, кропотливо рассуждая отом, что "самая маленькая судьба этого человека решена, ему нет спасения..
В его крови найдена хоть микроскопическая частичка гноя, судьба егорешена...". О себе ли он говорил, в себе ли почувствовал эту частичку, тайноиспортившую всг то, что он за жизнь свою сделал и испытал? Мыслитель,труженик, светлый ум, населявший свои утопии армией стенографистов, -- онтеперь дождался того, что его бред записал секретарь. В ночь на 17-ое с нимбыл удар, -- чувствовал, что язык во рту какой-то толстый; после чего вскорескончался. Последними его словами (в 3 часа утра, 16-го) было: "Странноедело: в этой книге ни разу не упоминается о Боге". Жаль, что мы не знаем,какую именно книгу он про себя читал.
Теперь он лежал окруженный мертвыми томами Вебера; всем подрукупопадался футляр с очками.
Шестьдесят один год минуло с того 1828 года, когда появились в Парижепервые омнибусы, и когда саратовский священник записал у себя вмолитвеннике: "Июля 12-го дня по утру в 3-м часу родился сын Николай..
Крещен по утру 13-го пред обеднею. Восприемники: протоиерей Фед. Стеф
Вязовский...". Эту фамилию впоследствии Чернышевский дал главномугерою-чтецу своих сибирских новелл, -- и по странному совпадению так илипочти так (Ф. В........ский) подписался неизвестный поэт, поместивший вжурнале "Век" (1909 год, ноябрь) стихи, посвященные, по имеющимся у нассведениям, памяти Н. Г. Чернышевского, -- скверный, но любопытный сонет,который мы тут приводим полностью:
Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался, -- труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?-------
Глава пятая
Спустя недели две после выхода "Жизни Чернышевского" отозвалось первое,бесхитростное эхо. Валентин Линев (Варшава) написал так:
"Новая книга Бориса Чердынцева открывается шестью стихами, которыеавтор почему-то называет сонетом (?), а засим следует вычурно-капризноеописание жизни известного Чернышевского.
Чернышевский, рассказывает автор, был сыном "добрейшего протоиерея" (нокогда и где родился, не сказано), окончил семинарию, а когда его отец,прожив святую жизнь, вдохновившую даже Некрасова, умер, мать отправиламолодого человека учиться в Петербург, где он сразу, чуть ли не на вокзале,сблизился с тогдашними "властителями дум", как их звали, Писаревым иБелинским. Юноша поступил в университет, занимался техническимиизобретениями, много работал и имел первое романтическое приключение сЛюбовью Егоровной Лобачевской, заразившей его любовью к искусству. Послеодного столкновения на романтической почве с каким-то офицером в Павловске,он однако принужден вернуться в Саратов, где делает предложение своейбудущей невесте, на которой вскоре и женится.
Он возвращается в Москву, занимается философией, участвует в журналах,много пишет (роман "Что нам делать"), дружит с выдающимися писателями своеговремени. Постепенно его затягивает революционная работа, и после одногобурного собрания, где он выступает совместно с Добролюбовым и известнымпрофессором Павловым, тогда еще совсем молодым человеком, Чернышевскийпринужден уехать заграницу. Некоторое время он живет в Лондоне, сотрудничаяс Герценом, но затем возвращается в Россию и сразу арестован. Обвиненный вподготовке покушения на Александра Второго Чернышевский приговорен к смертии публично казнен.
Вот вкратце история жизни Чернышевского, и всг обстояло бы отлично,если б автор не нашел нужным снабдить свой рассказ о ней множеством ненужныхподробностей, затемняющих смысл, и всякими длинными отступлениями на самыеразнообразные темы. А хуже всего то, что, описав сцену повешения, и покончивсо своим героем, он этим не удовлетворяется и на протяжении еще многихнеудобочитаемых страниц рассуждает о том, что было бы, если бы -- что, еслибы Чернышевский, например, был не казнен, а сослан в Сибирь, какДостоевский.
Автор пишет на языке, имеющем мало общего с русским. Он любитвыдумывать слова. Он любит длинные запутанные фразы, как например: "Ихсортирует (?) судьба в предвидении нужд (!!) биографа" или вкладывает в устадействующих лиц торжественные, но несовсем грамотные, сентенции, вроде "Поэтсам избирает предметы для своих песен, толпа не имеет права управлять еговдохновением".
Почти одновременно с этой увеселительной рецензией, появился отзывХристофора Мортуса (Париж), -- так возмутивший Зину, что с тех пор у неетаращились глаза и напрягались ноздри всякий раз, как упоминалось это имя.
"Говоря о новом молодом авторе (тихо писал Мортус), обыкновенноиспытываешь чувство некоторой неловкости: не собьешь ли его, не повредишь лиему слишком "скользящим" замечанием? Мне кажется, что в данном случаебояться этого нет основания. Годунов-Чердынцев новичек, правда, но новичеккрайне самоуверенный, и сбить его, вероятно, нелегко. Не знаю, предвещает ликакие-либо дальнейшие "достижения" только что вышедшая книга, но, если этоначало, то его нельзя признать особенно утешительным.
Оговорюсь. Собственно, совершенно неважно, удачно ли или нетпроизведение Годунова-Чердынцева. Один пишет лучше, другой хуже, и всякого вконце пути поджидает Тема, которой "не избежит никто". Вопрос, мне кажется,совсем в другом. Безвозвратно прошло то золотое время, когда критика иличитателя могло в первую очередь интересовать "художественное" качество илиточная степень талантливости книги. Наша литература, -- я говорю онастоящей, "несомненной" литературе, -- люди с безошибочным вкусом меняпоймут, -- сделалась проще, серьезнее, суше, -- за счет искусства, можетбыть, но зато (в некоторых стихах Циповича, Бориса Барского, в прозеКоридонова...) зазвучала такой печалью, такой музыкой, таким "безнадежным"небесным очарованием, что, право же, не стоит жалеть о "скучных песняхземли".
Сама по себе затея написать книжку о выдающемся деятеле шестидесятыхгодов ничего предосудительного в себе не содержит. Ну, написал, ну, вышла всвет, -- выходили в свет и не такие книги. Но общее настроение автора,"атмосфера" его мысли, внушает странные и неприятные опасения. Я не стануговорить о том, насколько своевременно или нет появление такой книги. Что ж,-- никто не может запретить человеку писать о чем ему угодно! Но мне