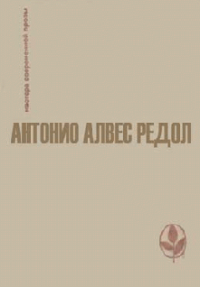Книга "Пнин (в переводе С.Ильина)". Страница 7
жалкое волнение, охватившее моего бедного друга однажды вечером в серединесеместра, -- он как раз получил телеграмму и самое малое сорок минут мерилшагами комнату, -- необходимо сказать, что Пнин не всегда был одинок
Клементсы в отблесках уютного пламени играли в китайские шашки, когда Пнин,топоча, спустился по лестнице, оскользнулся и чуть не упал к их ногам,подобно жалобщику в некоем древнем городе, полном неправедных судей, ноудержал равновесие -- затем лишь, чтобы врезаться в кочергу со щипцами.
¤-- Я пришел, -- задыхаясь, сказал он, -- чтобы проинформировать или,правильнее, спросить вас, могу ли я принять визитера, женщину, -- в дневноевремя, конечно. Это моя бывшая жена, ныне доктор Лиза Винд, может быть, выпро нее слыхали в психиатрических кругах?5
Встречаются среди наших любимых женщины, чьи глаза -- по случайномусочетанию очерка и блеска -- воздействуют на нас не сразу, не в минутуробкого восприятия, но, подобно задержанной и накопленной вспышке света,после, когда сама жестокая уже удалилась, а волшебная мука осталась при нас,установив в темноте свои линзы и лампы. Какими бы ни были глаза Лизы Пниной,ныне Винд, они, казалось, обнаруживали их сущность, их чистейшую воду, лишьпри воспоминаньи о них, вот тогда пустое, слепое, влажно-аквамариновоесияние принималось зиять и трепетать, как если бы вам под веки били брызгисолнца и моря. На самом деле, глаза у нее были бледно-голубые, прозрачные, сконтрастно черными ресницами и ярко-розовой лузгой; глаза чуть оттягивалиськ вискам, куда от каждого веером расходились кошачьи морщинки. Копна темныхкаштановых волос над глянцевитым лбом, снежно-розовый цвет лица, оченьсветлая красная губная помада -- если не считать некоторой толстоватостищиколок и запястий, навряд ли имелся какой-либо изъян в ее цветущей, живой,стихийной и не очень ухоженной красоте.
Пнин, о ту пору молодой, подающий надежды ученый, и она, тогда более,чем теперь, походившая на прозрачную русалку, но в сущности, та же самаяженщина, познакомились в Париже году в 25-м. Он носил редкую рыжеватуюбороду (ныне, если он не побреется, вылезает лишь белая щетина, -- бедныйПнин, бедный дикобраз-альбинос), и эта расчесанная на стороны монастырскаяпоросль, венчаемая толстым лоснистым носом и невинными глазами, отличнопередавали телесный облик старомодной интеллигентской России. Скромнаядолжность в Аксаковском институте (рю Вер-Вер) вкупе с другой -- в русскойкнижной лавке Савла Багрова (рю Грессе) доставляли ему средства ксуществованию. Лиза Боголепова, студентка-медичка, едва перевалившая задвадцать и совершенно очаровательная в черном шелковом джампере и строгогопокроя юбке, уже работала в Медонской санатории, руководимой замечательной,устрашающей старой дамой, доктором Розеттой Стоун, одной из наиболеесокрушительных психиатрисс тех дней. А кроме того, Лиза писала стихи -- всебольше запинающимся анапестом; Пнин и увидел-то ее впервые на одном из техлитературных вечеров, где молодые эмигрантские поэты, покинувшие Россию впору их тусклого, неизбалованного созревания, монотонно читалиностальгические элегии, посвященные стране, которая могла бы стать для нихчем-то большим, нежели стилизованно грустной игрушкой, безделицей, найденнойна чердаке, хрустальным шаром, внутри которого, если его потрясти, начинаетпадать над крохотной елью и избушкой из папье-маше мягко светящийся снег
Пнин написал к ней потрясающее любовное письмо, -- ныне хранимое в частномсобрании, -- и она прочла его, обливаясь слезами жалости к себе, когдаоправлялась после попытки фармацевтического самоубийства, причиной коего былдовольно глупый роман с одним литератором, который теперь... А впрочем,неважно. Пятеро аналитиков, все близкие ее друзья, в один голос сказали:"Пнин -- и сразу ребенок".
Брак едва ли переменил образ их жизни, -- разве что Лиза перебралась впыльную квартиру Пнина. Он продолжал свои исследования в области славистики,она свои -- в сфере психодраматики, и как прежде, несла лирические яички,откладывая их по всему дому, точно пасхальный кролик; и в этих зеленых илиловых стихах -- о дитяти, которого ей хотелось бы выносить, и олюбовниках, которых ей хотелось иметь, и о Петербурге (спасибо АннеАхматовой) -- каждая интонация, каждый образ, каждое сравнение были ужеиспользованы другими рифмующими кроликами. Один из ее поклонников, банкир ипрямой покровитель искусств, выбрал среди парижских русских влиятельноголитературного критика Жоржика Уранского и за обедом с шампанским в "Уголке"уговорил милягу посвятить очередную его feuilleton1 в одной из русских газетпрославлению лизиной музы, на чьи каштановые кудри Жоржик невозмутимоводрузил корону Анны Ахматовой, и Лиза разразилась слезами счастья -- нидать ни взять маленькая Мисс Мичиган или Орегонская Королева Роз. Пнин, неведавший о подоплеке событий, таскал в своей честной записной книжкегазетную вырезку с этим бесстыдным враньем и наивно зачитывал оттуда кусочкизабавляющимся друзьям, пока вырезка не истерлась и не засалиласьокончательно. Не ведал он и о делах посерьезней, он, собственно говоря, какраз подклеивал останки рецензии в альбом тем декабрьским днем 1938 года,когда Лиза позвонила ему из Медона и сообщила, что уезжает в Монпелье счеловеком, понимающим ее "органическое эго", -- с доктором Эриком Виндом, -и что больше Тимофей никогда ее не увидит. Незнакомая рыжая француженказашла за Лизиными вещами и сказала: "Ну что, подвальная крыса, больше нет ниодной бедной девушки, чтобы ее taper dessus2", -- а месяц или два погодя,притекло немецкое письмо от доктора Винда с выражениями сочувствия и сизвинениями, заверяющее lieber Herr Pnin3, что он, доктор Винд, исполненжелания жениться на женщине, "которая пришла из Вашей жизни в мою". Пнин,разумеется, дал бы ей развод с такой же готовностью, с какой отдал бы ижизнь, обрезав влажные стебли, добавив листов папоротника и все обернув вцеллофан, хрустящий, как в пропахшем почвенной сыростью цветочном магазине,когда дождь превращает Светлое Воскресенье в серые и зеленые зеркала;оказалось, однако, что у доктора Винда есть в Южной Америке жена, особа сизвращенным умом и поддельным паспортом, и она не желает, чтобы еебеспокоили, покамест некоторые ее планы не приобретут окончательного вида
Той порой Новый Свет поманил Пнина: его близкий друг, профессор КонстантинШато предложил из Нью-Йорка какую угодно помощь для совершения миграционноговояжа. Пнин известил о своих планах доктора Винда и послал Лизе последнийномер эмигрантского журнала, в котором ее упоминали на 202-й странице. Онуже наполовину прошел безотрадную преисподнюю, выдуманную (к вящей радостиСоветов) европейскими бюрократами для обладателей этой никчемной бумажки,нансеновского паспорта (своего рода справки об освобождении под честноеслово, выдаваемой русским эмигрантам), когда в один сырой апрельский день1940 года в дверь его сильно позвонили и, тяжело ступая, пыхтя и толкаяперед собой комод семимесячной беременности, вошла Лиза и объявила, сорвавшляпу и скинув туфли, что все было ошибкой, и что отныне она снова -законная и верная жена Пнина, готовая следовать за ним повсюду, -- еслипонадобится, то и за океан. Те дни были, вероятно, счастливейшими в жизниПнина, -- постоянный накал тяжкого, болезненного блаженства, -- и вызреваниевиз, и приготовления, и медицинский осмотр у глухонемого доктора, прямочерез одежду приставившего пустышку стетоскопа к стесненному сердцу Пнина, иучастливая русская дама (моя родственница), которая так помогла вамериканском консульстве, и путешествие в Бордо, и прекрасный чистыйкорабль, -- все отзывалось сочным привкусом волшебной сказки. Пнин не толькоготов был усыновить дитя, когда таковое явится на свет, он страстностремился к этому, и Лиза с удовлетворенным, отчасти коровьим выражениемслушала, как он излагает свои педагогические планы, ибо казалось, что он ивпрямь слышит первый вопль младенца и первое его слово, долетевшие изблизкого будущего. Всегда охочая до засахаренного миндаля, она теперьпоглощала его в баснословных количествах (два фунта между Парижем и Бордо),и аскетический Пнин созерцал ее алчность, с завистливой радостью покачиваяголовой и пожимая плечами, и что-то от шелковистой гладкости этих dragйes1осталось в его сознании навсегда слитым с памятью о ее тугой коже, о цветелица и безупречных зубах.
Несколько опечалило то, что едва поднявшись на борт, она бросилаодин-единственный взгляд на взбухавшее море, сказала: "Ну, это извините", ибыстро ретировалась в корабельное чрево, где и пролежала на спине большуючасть плавания - в каюте, которую она делила с говорливыми женами трехнемногословных поляков (борца, садовника, парикмахера), в их-то обществе ипутешествовал Пнин. На третий день пути, надолго задержавшись вкают-компании после того, как Лиза отправилась спать, он охотно согласилсяна партию в шахматы, предложенную бывшим редактором франкфуртской газеты, -печальным патриархом с мешками под глазами, в закрывающем горло свитере и вбрюках-гольф. Ни тот, ни другой хорошими игроками не были: оба питалисклонность к эффектным, но совершенно бессмысленным жертвам, и каждыйслишком стремился выиграть; особенно же разнообразил развитие партиифантастический немецкий язык, на котором изъяснялся Пнин ("Wenn Sie so, dannich so, und Pferd fliegt"2). Затем подошел еще один пассажир и сказал,entschuldigen Sie, нельзя ли ему понаблюдать за игрой? И сел с ними рядом. Унего были рыжеватые, коротко остриженные волосы и длинные бледные ресницы,напоминающие лепизму, он носил поношенный двубортный пиджак, и вскоре ужебеззвучно квохтал всякий раз, как патриарх после величавого созерцаниянаклонялся, чтобы сделать нелепый ход. В конце концов этот участливыйнаблюдатель и, очевидно, знаток, не устоял и, оттолкнувши пешку, которуютолько что двинул вперед его соотечественник, дрожащим перстом указал наладью, которую старый франкфуртец немедленно сунул подмышку защиты Пнина
Наш герой проиграл, разумеется, и намеревался уже покинуть кают-компанию, нознаток перехватил его, сказав entschuldigen Sie3, нельзя ли ему немногопоговорить с Herr Pnin4? ("Как видите, я знаю ваше имя",-- заметил он вскобках, подняв кверху свой столь употребительный указательный палец) -- ипредложил выпить в баре по кружке пива. Пнин согласился, и когда перед нимипоставили кружки, вежливый незнакомец продолжил так: "В жизни, как и вшахматах, всегда полезно анализировать свои намерения и мотивы. В тот день,