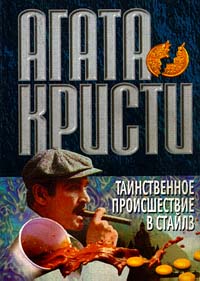Книга "КОНОВАЛОВ". Страница 6
собою землю... Потом постепенно голубое небо как бы притягивало нас к себе,мы утрачивали чувство бытия и, как бы отрываясь от земли, точно плавали впустыне небес, находясь в полудремотном, созерцательном состоянии и стараясьне разрушать его ни словом, ни движением.
Так лежали мы по нескольку часов кряду и возвращались домой к работедуховно и телесно обновленные и освеженные.
Коновалов любил природу глубокой, бессловесной любовью, и всегда, в полеили на реке, весь проникался каким-то миролюбиво-ласковым настроением, ещеболее увеличивавшим его сходство с ребенком. Изредка он с глубоким вздохомговорил, глядя в небо:
- Эх!.. Хорошо!
И в этом восклицании всегда было более смысла и чувства, чем вриторических фигурах многих поэтов, восхищающихся скорее ради поддержаниясвоей репутации людей с тонким чутьем прекрасного, чем из действительногопреклонения пред невыразимо ласковой красой природы...
Как вс°, и поэзия теряет свою святую простоту, когда из поэзии делаютпрофессию
День за днем прошли два месяца. Я с Коноваловым о многом переговорил имного прочитал. "Бунт Стеньки" я читал ему так часто, что он уже свободнорассказывал книгу своими словами, страницу за страницей, с начала до конца.
Эта книга стала для него тем, чем становится иногда волшебная сказка длявпечатлительного ребенка. Он называл предметы, с которыми имел дело, именамиее героев, и когда однажды с полки упала и разбилась хлебная чашка, оногорченно и зло воскликнул:
- Ах ты, воевода Прозоровский!
Неудавшийся хлеб он величал Фролкой, дрожжи именовались "Стенькиныдумки"; сам же Стенька был синонимом всего исключительного, крупного,несчастного, неудавшегося.
О Капитолине, письмо которой я читал и сочинял ответ на него в первыйдень знакомства с Коноваловым, за все время почти не упоминалось.
Коновалов посылал ей деньги на имя некоего Филиппа с просьбой к немупоручиться в полиции за девушку, но ни от Филиппа, ни от девушки никакогоответа не последовало.
И вдруг, однажды вечером, когда мы с Коноваловым готовились сажать хлебы,дверь в пекарню отворилась, и из темноты сырых сеней низкий женский голос,одновременно робкий и задорный, произнес:
- Извините...
- Кого нужно? - спросил я, в то время как Коновалов, опустив к ногамлопату, смущенно дергал себя за бороду.
- Булочник Коновалов здесь работает?
Теперь она стояла на пороге, и свет висячей лампы падал ей прямо наголову - в белом шерстяном платке. Из-под платка смотрело круглое,миловидное, курносое личико с пухлыми щеками и ямочками на них от улыбкипухлых красных губ.
- Здесь! - ответил я ей.
- Здесь, здесь! - вдруг и как-то очень шумно обрадовался Коновалов,бросив лопату и широкими шагами направляясь к гостье.
- Сашенька! - глубоко вздохнула она ему навстречу. Они обнялись, для чегоКоновалов низко наклонился к ней.
- Ну что? Как? Давно? Вот так ты! Свободна? Хорошо! Вот видишь? Яговорил!.. Теперь у тебя опять есть дорога! Ходи смело! - торопливоизъяснялся перед ней Коновалов, все еще стоя у порога и не разводя своихрук, обнявших ее шею и талию.
- Максим... ты, брат, воюй один сегодня, а я займусь вот по дамскойчасти... Где же ты, Капа, остановиBась?
- А я прямо сюда, к тебе...
- Сю-юда? Сюда невозможно... здесь хлеб пекут и... никак нельзя! Хозяин унас строжайший человек. Нужно будет пристроиться на ночь в ином месте... вномере, скажем. Аида!
И они ушли. Я остался воевать с хлебами и никак не ожидал Коноваловаранее утра; но, к немалому моему изумлению, часа через три он явился. Моеизумление еще больше увеличилось, когда, взглянув на него в чаянии видеть наего лице сияние радости, я увидел, что оно только кисло, скучно и утомлено.
- Что ты? - спросил я, сильно заинтересованный этим не подобающим событиюнастроением моего друга.
- Ничего... - уныло ответил он и, помолчав, довольно свирепо сплюнул.
- Нет, все-таки?.. - настаивал я.
- Да что тебе? - устало отозвался он, во весь рост растягиваясь на ларе
- Все-таки... все-таки... Все-таки - баба!
Мне стоило большого труда добиться от него объяснения, и наконец он далмне его такими приблизительно словами:
- Говорю - баба! И когда бы я не был дураком, так ничего бы этого небыло. Понял? Вот ты говоришь: и баба человек! Известно, ходит она на однихзадних лапах, травы не ест, слова говорит, смеется - значит, не скот. Авсе-таки нашему брату не компания... Почему? А... не знаю! Чувствую, неподходит, но понимать не могу - почему... Вот она, Капитолина, какую линиюгнет: "Хочу, говорит, с тобой жить вроде жены. Желаю, говорит, быть твоейдворняжкой..." Совсем несообразно! "Ну, милая ты девочка, говорю, дуреха ты;ну, рассуди, как со мной жить? Первое дело у меня - запой, во-вторых, нет уменя никакого дому, в-третьих, я есть бродяга и не могу на одном местежить..." - и прочее такое, очень многое... А она: "Запой - наплевать! Все,говорит, мастеровые мужчины горькие пьяницы, однако жены у них есть; дом,говорит, будет, коли будет жена, и никуда, говорит, ты тогда не побежишь..."Я говорю: "Капа, никак я не могу к этому склониться, потому что я знаю жизнью такой жить не умею, не научусь". А она: "А я, говорит, в речкупрыгну!" А я ей: "Ду-урра!" А она ругаться, да ведь ка-ак! "Ах ты, говорит,смутьян, бесстыжая рожа, обманщик, длинный черт!.." И почала, и почала..
просто так-то ли разъярилась на меня, что я чуть не сбежал. Потом началаплакать. Плачет и пеняет мне: "Зачем ты, говорит, меня из того места вынул,коли я тебе не нужна? Зачем ты, говорит, меня оттуда сманил, и куда,говорит, я теперь денусь? Рыжий ты, говорит, дурак..." Ну, что теперь с нейделать?
- Да ты ее, в самом деле, почему оттуда вытащил? - спросил я.
- Почему? Вот чудак! Чай, жалко! Ведь угрязает человек... и всякому, мимоидущему, его жалко. Но чтобы обзаводиться... и прочее такое, ни-ни! На это ясогласиться не могу. Какой я семьянин? Да кабы я мог держаться на этойточке, так я бы уж давно решился. Какие резоны были! Мог бы и с придаными... все такое. Но ежели это не в моей силе, как я могу творить такое дело?Плачет она.. это, конечно... тово, нехорошо... Но ведь как же? Я не могу!
Он даже головой замотал в подтверждение своего тоскливого "не могу",встал с ларя и, обеими руками ероша бороду, начал, низко опустив голову иотплевываясь, шагать по пекарне.
- Максим! - просительно и сконфуженно заговорил он, - пошел бы ты к ней икак-нибудь этак сказал ей, почему и отчего... а? Пойди, брат!
- Что же я ей скажу?
- Всю правду говори!.. Не может, мол, он. Не подходящее это ему... А тоскажи вот что... у него, мол, дурная болезнь!
- Да ведь это неправда? - засмеялся я.
- Н-да... неправда... А причина хо-орошая, а? Ах ты, черт те возьми! Воттак каша! А? Ну куда мне жена?
Он с таким недоумением и испугом развел руками при этих словах, что былоясно - ему некуда девать жену! И, несмотря на комизм его изложения этойистории, ее драматическая сторона заставила меня крепко задуматься надсудьбою девушки. А он все ходил по пекарне и говорил как бы уж сам с собою:
- И не понравилась теперь она мне, ну просто страх как! Так это изасасывает меня она, так и втягивает куда-то, точно трясина бездонная. Ишьты, облюбовала себе мужа! Не больно умна, а хитрая девочка.
Это в нем, видимо, начинал говорить инстинкт бродяги, чувство вечногостремления к свободе, на которую было сделано покушение.
- Нет, меня на такого червя не поймаешь, я рыба крупная! - хвастливовоскликнул он. - Я вот как возьму, да... а что, в самом деле? - И,остановясь среди пекарни, он, улыбаясь, задумался. Я следил за игрой еговозбужденной физиономии и старался предугадать, на чем он решил.
- Максим! Аида на Кубань?!
Этого я не ожидал. У меня по отношению к нему имелись некоторыелитературно-педагогические намерения: я питал надежду выучить его грамоте ипередать ему все то, что сам знал в ту пору. Он дал мне слово все лето недвигаться с места; это облегчало мне мою задачу, и вдруг...
- Ну, это уж ты ерундишь! - несколько смущенно сказал я ему.
- Да что ж мне делать? - воскликнул он.
Я начал говорить ему, что посягательство Капитолины на него совсем уж нетак серьезно, как он его себе представляет, и что надо посмотреть иподождать.
И даже, как оказалось, ждать-то было недолго.
Мы беседовали, сидя на полу перед печью спинами к окнам. Время былоблизко к полночи, и с той поры, как Коновалов пришел, прошло часаполтора-два. Вдруг сзади нас раздался дребезг стекол, и на пол шумногрохнулся довольно увесистый булыжник. Мы оба в испуге вскочили и бросилиськ окну.
- Не попала! - визгливо кричали в него. - Плохо метила. А уж бы...
- П'д°-ем! - рычал зверский бас. - П'д°-ем, а я его после уважу!
Отчаянный, истерический и пьяный хохот, визгливый, рвавший нервы, летел сулицы в разбитое окно.
- Это она! - тоскливо сказал Коновалов. Я видел пока только две ноги,свешенные с панели в углубление пред окном. Они висели и странно болтались,ударяя пятками по кирпичной стенке ямы, как бы ища себе опоры.
- Да п'д°-ем! - лопотал бас