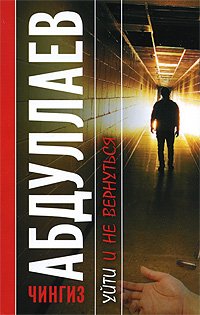Книга "СТАРУХА ИЗЕРГИЛЬ". Страница 2
Он приходил в племя и похищал скот, девушек - все, что хотел. В негостреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровомвысшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьмилицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вилсяоколо людей, долго - не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близкок людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем непоказал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнулгромко:
- Не троньте его. Он хочет умереть!
И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, нежелая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этотсмех, и все искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг онбросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, ненанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал наземлю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, поднявпотерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломалсянож - точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго билсяголовой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов егоголовы.
- Он не может умереть! - с радостью сказали люди. И ушли, оставив его. Онлежал кверху лицом и видел - высоко в небе черными точками плавали могучиеорлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всехлюдей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вотон ходит, ходит повсюду... Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно!Он не понимает ни речи людей, ни их поступков - ничего. И все ищет, ходит,ходит... Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места средилюдей... Вот как был поражен человек за гордость!"
Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь,несколько раз странно качнулась.
Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне. И сталопочему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным,угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.
На берегу запели, - странно запели. Сначала раздался контральто, - онпропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, апервый все лился впереди его... - третий, четвертый, пятый вступили в песнюв том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужскихголосов.
Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казалисьразноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам,прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюсякверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другимвзвивались, чистые и сильные, высоко вверх.
Шума волн не слышно было за голосами..
II
- Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? - спросила Изергиль,поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.
- Не слыхал. Никогда не слыхал...
- И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали задень те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот- поют.
- Но здоропCе... - начал было я.
- Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, нетратил бы их? Здоровье - то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда быламолодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, каксолнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень
И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, ябежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца,пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой порыдожила - хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..
Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их неоживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы,заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый,словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежалапрядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою былаобмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и прикаждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожаразорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет стусклыми черными глазами.
Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:
- Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне былопятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий,гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна:
"Эй, нет ли у вас вина... и поесть мне?" Я посмотрела в окно сквозь ветвиясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широкомкушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другойна берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: "Вот какаякрасавица живет тут!.. А я и не знал про это!" Точно он уж знал всехкрасавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины... А через четыре днядала уже и всю себя... Мы вс° катались с ним в лодке по ночам. Он приедет ипосвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. Иедем... Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про все и побиламеня, уговаривал все меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла
Но мне уж не нравился он тогда - только поет да целуется, ничего больше!Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у нихбыли любезные тут... Так вот тем - весело было. Иная ждет, ждет своегокарпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь вдраке, - и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадетк ней. Подарки подносил богатые - легко же ведь доставалось все им! И пируету нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросилаодну подругу, у которой был гуцул, показать мне их... Как ее звали? Забылакак... Все стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, всезабудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош... Рыжий был, весьрыжий - и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногдаласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо... Ая, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку... С той порыу него на щеке стала ямка, и он любил, когда я целовала ее...
- А рыбак куда девался? - спросил я.
- Рыбак? А он... тут... Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала всеуговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом - ничего, пристал к ним идругую завел... Их обоих и повесили вместе - и рыбака и этого гуцула. Яходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казньбледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах,один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынултрубку и кричит: "Прощай!.." Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда сними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одномурумыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, аостальные ушли... Все-таки румыну заплатили после... Хутор сожгли имельницу, и хлеб весь. Нищим стал.
- Это ты сделала? - наудачу спросил я.
- Много было друзей у гуцулов, не одна я... Кто был их лучшим другом, тоти справил им поминки...
Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шумморских волн, - задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу омятежной жизни. Все мягче становилась ночь, и все больше разрождалось в нейголубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимыхобитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн... ибоусиливался ветер.
- А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделюжила, - ничего... Но скучно стало... - вс° женщины, женщины... Восемь былоих у него... Целый день едят, спят и болтают глупые речи... Или ругаются,квохчут, как курицы... Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такойважный, богатый. Говорил - как владыка... Глаза были черные... Прямыеглаза... Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурештиувидала... Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я емуулыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Онсандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. "Едешь комне?" - говорит. "О да, поеду!" - "Хорошо!" И я поехала. Богатый он был,этот турок. И сын у него уже был - черненький мальчик, гибкий такой... Емулет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка... Убежала в Болгарию, вЛом-Паланку... Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или замужа своего - уже не помню.
Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мнойодна девушка, полька... и к ней из монастыря другого, - около Арцер-Паланки,помню, - ходил брат, тоже монашек... Такой... как червяк, все извивалсяпредо мной... И когда я выздоровела, то ушла с ним... в Польшу его.
- Погоди!.. А где маленький турок?
- Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви... но сталсохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепалосолнца... так и сох все... Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый,как льдинка, а все еще в нем горит любовь... И все просит наклониться ипоцеловать его... Я любила его и, помню, много целовала... Потом уж онсовсем стал плох - не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищиймилостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь сним... он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный..