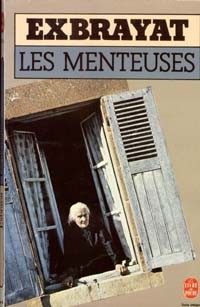Книга "БЕСЫ". Страница 75
Лебядкиным вместе, может быть еще вчера для скандалу. Последний стихнепременно ваш, про пономаря тоже. Почему он вышел во фраке? Значит, вы егои читать готовили, если б он не напился пьян?Липутин холодно и язвительно посмотрел на меня
- Вам-то что за дело? - спросил он вдруг с странным спокойствием
- Как что? Вы тоже носите этот бант... Где Петр Степанович?- Не знаю; здесь где-нибудь; а что?- А то, что я теперь вижу насквозь. Это просто заговор против ЮлииМихайловны, чтоб оскандалить день..
Липутин опять искоса посмотрел на меня:- Да вам-то что? - ухмыльнулся он, пожал плечами и отошел в сторону
Меня как бы обдало. Все мои подозрения оправдывались. А я-то еще надеялся,что ошибаюсь! Что мне было делать? Я было думал посоветоваться со СтепаномТрофимовичем, но тот стоял пред зеркалом, примеривал разные улыбки ибеспрерывно справлялся с бумажкой, на которой у него были сделаны отметки
Ему сейчас после Кармазинова следовало выходить, и разговаривать со мною онуже был не в состоянии. Бежать к Юлии Михайловне? Но к той было рано: тойнадо было гораздо покрепче урок, чтоб исцелить ее от убеждения в"окруженности" и во всеобщей к ней "фанатической преданности". Она бы мнене поверила и сочла духовидцем. Да и чем она могла помочь? "Э, подумал я,да ведь и в самом деле мне-то что за дело, сниму бант и уйду домой, когданачнется". Я так и произнес "когда начнется", я это помню
Но надо было идти слушать Кармазинова. Оглянувшись в последний раз закулисами, я заметил, что тут шныряет-таки довольно постороннего народа идаже женщин, выходят и уходят. Эти "за кулисы" было довольно узкоепространство, отгороженное от публики наглухо занавесью и сообщавшеесясзади через корридор с другими комнатами. Тут наши читавшие ожидали своейочереди. Но меня особенно поразил в это мгновение следующий после СтепанаТрофимовича лектор. Это был тоже какой-то в роде профессора (я и теперь незнаю в точности кто он такой), удалившийся добровольно из какого-тозаведения после какой-то студенческой истории и заехавший зачем-то в нашгород всего только несколько дней назад. Его тоже рекомендовали ЮлииМихайловне, и она приняла его с благоговением. Я знаю теперь, что он был уней всего только на одном вечере до чтения, весь тот вечер промолчал,двусмысленно улыбался шуткам и тону компании, окружавшей Юлию Михайловну, ина всех произвел впечатление неприятное надменным и в то же время допугливости обидчивым своим видом. Это сама Юлия Михайловна его завербовалачитать. Теперь он ходил из угла в угол и тоже, как и Степан Трофимович,шептал про себя, но смотрел в землю, а не в зеркало. Улыбок не примерял,хотя часто и плотоядно улыбался. Ясно, что и с ним тоже нельзя былоговорить. Ростом он был мал, лет сорока на вид, лысый и плешивый, сседоватою бородкой, одет прилично. Но всего интереснее было, что он скаждым поворотом подымал вверх свой правый кулак, мотал им в воздухе надголовою и вдруг опускал его вниз, как будто разбивая в прах какого-тосопротивника. Этот фокус проделывал он поминутно. Мне стало жутко. Поскореепобежал я слушать Кармазинова
III
В зале опять носилось что-то неладное. Объявляю заранее: я преклоняюсь предвеличием гения; но к чему же эти господа наши гении в конце своих славныхлет поступают иногда совершенно как маленюAие мальчики? Ну что же в том,что он Кармазинов и вышел с осанкою пятерых камергеров? Разве можнопродержать на одной статье такую публику как наша целый час? Вообще ясделал замечание, что будь разгений, но в публичном легком литературномчтении нельзя занимать собою публику более двадцати минут безнаказанно
Правда, выход великого гения встречен был до крайности почтительно. Дажесамые строгие старички изъявили одобрение и любопытство, а дамы так даженекоторый восторг. Аплодисмент однако был коротенький, и как-то недружный,сбившийся. Зато в задних рядах ни единой выходки, до самого того мгновения,когда господин Кармазинов заговорил, да и тут почти ничего не вышлоособенно дурного, а так как будто недоразумение. Я уже прежде упоминал, чтоу него был слишком крикливый голос, несколько даже женственный и при том снастоящим благородным дворянским присюсюкиванием. Только лишь произнес оннесколько слов, вдруг кто-то громко позволил себе засмеяться, - вероятнокакой-нибудь неопытный дурачок, не видавший еще ничего светского и при томпри врожденной смешливости. Но демонстрации не было ни малейшей; напротив,дураку же и зашикали, и он уничтожился. Но вот господин Кармазинов,жеманясь и тонируя, объявляет, что он "сначала ни за что не соглашалсячитать" (очень надо было объявлять!). "Есть, дескать, такие строки, которыедо того выпеваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святынюникак нельзя нести в публику" (ну так зачем же понес?); "но так как егоупросили, то он и понес, и так как сверх того он кладет перо навеки ипоклялся более ни за что не писать, то уж так и быть написал эту последнюювещь; и так как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике,то уж так и быть прочтет эту последнюю статью публике" и т. д. и т. д. вс¬в этом роде
Но вс¬ бы это ничего, и кто не знает авторских предисловий? Хотя замечу,при малой образованности нашей публики и при раздражительности заднихрядов, это вс¬ могло повлиять. Ну не лучше ли было бы прочитать маленькуюповесть, крошечный рассказик в том роде, как он прежде писывал, - то-естьхоть обточенно и жеманно, но иногда с остроумием? Этим было бы вс¬ спасено
Нет-с, не тут-то было! Началась рацея! Боже, чего тут не было! Положительноскажу, что даже столичная публика доведена была бы до столбняка, не тольконаша. Представьте себе почти два печатных листа самой жеманной ибесполезной болтовни; этот господин вдобавок читал еще как-то свысока,пригорюнясь, точно из милости, так что выходило даже с обидой для нашейпублики. Тема... Но кто ее мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчето каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чем? Как ни хмурились наши губернские лбы целую половину чтения, ничего не моглиодолеть, так что вторую половину прослушали лишь из учтивости. Правда,много говорилось о любви, о любви гения к какой-то особе, но признаюсь, этовышло несколько неловко. К небольшой толстенькой фигурке гениальногописателя как-то не шло бы рассказывать, на мой взгляд, о своем первомпоцелуе... И, что опять-таки обидно, эти поцелуи происходили как-то не таккак у всего человечества. Тут непременно кругом растет дрок (непременнодрок или какая-нибудь такая трава, о которой надобно справляться вботанике). При этом на небе непременно какой-то фиолетовый оттенок,которого конечно никто никогда не примечал из смертных, т.-е. и все видели,но не умели приметить, а "вот, дескать, я поглядел и описываю вам, дуракам,как самую обыкновенную вещь". Дерево, под которым уселась интересная пара,непременно какого-нибудь оранжевого цвета. Сидят они где-то в Германии
Вдруг они видят Помпея или Кассия накануне сражения, и обоих пронизываетхолод восторга. Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл втростнике на скрипке. Пиеса, которую он играл, названа en toutes lettres,но никому неизвестна, так что об ней надо справляться в музыкальномсловаре. Меж тем заклубился туман, так заклубился, так заклубился, чтоболее похож был на миллион подушек, чем на туман. И вдруг вс¬ исчезает, ивеликий гений переправляется зимой в оттепель через Волгу. Две с половиноюстраницы переправы, но вс¬-таки попадает в прорубь. Гений тонет, - выдумаете, утонул? И не думал; это вс¬ для того, что когда он уже совсемутопал и захлебывался, то пред ним мелькнула льдинка, крошечная льдинка сгорошинку, но чистая и прозрачная "как замороженная слеза", и в этойльдинке отразилась Германия или лучше сказать, небо Германии, и радужноюигрой своею отражение напомнило ему ту самую слезу, которая, "помнишь,скатилась из глаз твоих, когда мы сидели под изумрудным деревом, и тывоскликнула радостно: "Нет преступления!" "Да, сказал я сквозь слезы, ноколи так, то ведь нет и праведников". Мы зарыдали и расстались навеки". Она куда-то на берег моря, он в какие-то пещеры; и вот он спускается,спускается, три года спускается в Москве под Сухаревою башней, и вдруг всамых недрах земли в пещере находит лампадку, а пред лампадкой схимника
Схимник молится. Гений приникает к крошечному решетчатому оконцу, и вдругслышит вздох. Вы думаете, это схимник вздохнул? Очень ему надо вашегосхимника! Нет-с, просто-за-просто этот вздох напомнил ему ее первый вздох,тридцать семь лет назад, когда, "помнишь, в Германии, мы сидели подагатовым деревом, и ты сказала мне: "К чему любить? Смотри, кругом растетвохра, и я люблю, но перестанет расти вохра, и я разлюблю". Тут опятьзаклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопена русалка, и вдруг изтумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк-Марций. Ознобвосторга охватил наши спины, и мы расстались навеки" и т. д. и т. д. Однимсловом, я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовнибыл именно в этом роде. И наконец что за позорная страсть у наших великихумов к каламбурам в высшем смысле! Великий европейский философ, великийученый, изобретатель, труженик, мученик, - все эти труждающиеся иобремененные, для нашего русского великого гения решительно в роде поварову него на кухне. Он барин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждутприказаний. Правда, он надменно усмехается и над Россией, и ничего нетприятнее ему, как объявить банкротство России во всех отношениях предвеликими умами Европы, но что касается его самого, - нет-с, он уже надэтими великими умами Европы возвысился; все они лишь материал для его